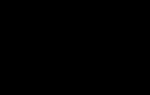Карабчевский николай платонович - судебные речи.
Значение в Краткой биографической энциклопедии
КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ
Карабчевский, Николай Платонович - известный судебный оратор и писатель. Родился 30 ноября 1851 г. Окончил курс на юридическом факультете Петербургского университета. Состоит присяжным поверенным округа Петербургской судебной палаты. Много лет был членом совета присяжных поверенных; в 1913 г. был избран председателем совета, но выборы эти были отменены судебной палатой. Как судебный оратор, Карабчевский обратил на себя внимание речью в защиту Е. Брешковской в политическом процессе "193-х" (в 1877 г.). Целый ряд громких уголовных процессов (например, Мироновича, Имшанецкого, Ольги Палем, мултанских вотяков, братьев Скитских) прошел при его участии. Отличительные его черты - стремительность речи и искреннее одушевление. Он сам волнуется и волнует свою аудиторию. Особенно выдаются его речи по политическим делам: Гершуни и Сазонова. Речь по делу Сазонова переведена на французский язык и помещена в "Revue des grands proces" за 1905 г. В 1913 г. Карабчевский выступил одним из защитников по известному делу Бейлиса. Обладая выдающимся искусством допрашивать свидетелей и экспертов, Карабчевский часто переносит центр тяжести процесса на судебное следствие. Из беллетристических произведений Карабчевского наиболее выдающееся "Господин Арсков" ("Вестник Европы"), из публицистических - статья "О французской адвокатуре" ("Северный Вестник") и "Смерть Л.Н. Толстого" ("Право"). В 1902 г. Карабчевский издал отдельно свои публицистические статьи, сообщения и судебные очерки, под общим названием "Около правосудия"; здесь же помещена и статья его "Как я стал адвокатом". В 1905 г. им выпущена книга ("Приподнятая Завеса"), в которой собраны его беллетристические произведения, стихи и стихотворения в прозе.
Краткая биографическая энциклопедия. 2012
Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
- КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ
известный судебный оратор и писатель. Род. в 1851 г. окончил курс на юридическ. факультете СПб. унив. С 1879 г. состоит … - КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона:
? известный судебный оратор и писатель. Род. в 1851 г. окончил курс на юридическ. факультете СПб. унив. С 1879 г. … - НИКОЛАЙ в Библейской энциклопедии Никифора:
(победа народа; Деян 6:5) - родом из Антиохиян, обращенный вероятно из язычества в Христианскую веру, один из диаконов Церкви апостольской, … - НИКОЛАЙ в 1000 биографий знаменитых людей:
Николаевич, великий князь (1856-?). - Окончил военную академию в 1876 г. Участвовал офицером в русско-турецкой войне. В период от 1895 … - НИКОЛАЙ
Николай - Мурликийский архиепископ, святой, высокочтимый на Востоке и Западе, иногда даже мусульманами и язычниками. Его имя окружено массой народных … - НИКОЛАЙ в Большом энциклопедическом словаре:
(4 в.) архиепископ Мирликийский (г. Мир в Ликии, М. Азия), христианский святой-чудотворец, широко почитаемый в Восточной и Западной церкви. В … - НИКОЛАЙ ИМЯ 5 ПАП в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
имя 5 пап. Н. I (858—867), римлянин знатного рода, был избран под влиянием императора Людовика II. Отличаясь твердой волей и … - НИКОЛАЙ ЕПИСКОП НОВОМИРГОРОДСКИЙ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(Иван Григорьевич Заркевич) — епископ новомиргородский, духовный писатель (1827— 885). Учился в СПб. духовной академии; до принятия монашества состоял священником … - НИКОЛАЙ ЕПИСКОП АЛЕУТСКИЙ И АЛЯСКИНСКИЙ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
I (в мире Михаил Захарович Зиоров, род. в 1850 г.) — епископ алеутский и аляскинский (с 1891 г.); образование получил … - НИКОЛАЙ ДУХОВН. ПИСАТЕЛЬ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(в мире Петр Степанович Адоратский) — духовный писатель (1849—96). Воспитанник Казанской духовной академии, Н., по принятии монашества, пробыл 4 года … - НИКОЛАЙ ГРЕЧ. РИТОР в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(Nikolaos) — греч. ритор из Мир-Ликийских, жил в конце V в. по Р. Хр., автор "Progymnasmata" — введения в стилистические … - НИКОЛАЙ НАЛИМОВ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
(в мире Николай Александрович Налимов, род. в 1852 г.) — экзарх Грузии, архиепископ карталинский и кахетинский, воспитанник спб. духовной академии. … - НИКОЛАЙ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:
Николай - архиепископ мирликийский (города Мир в Ликии), великийхристианский святой, прославившийся чудотворениями при жизни и посмерти, "правило веры и образ … - НИКОЛАЙ в Современном энциклопедическом словаре:
- НИКОЛАЙ в Энциклопедическом словарике:
I (1796 - 1855), российский император (с 1825), третий сын императора Павла I. Вступил на престол после внезапной смерти императора … - НИКОЛАЙ
НИКОЛ́АЙ САЛОС, псковский юродивый. В 1570 во время похода Ивана IV на Псков встретил царя у ворот города, обличая его … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ НИКОЛАЕВИЧ (Старший) (1831- 1891), вел. князь, третий сын имп. Николая I, ген.-фельдм. (1878), поч. ч. Петерб. АН (1855). С … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ НИКОЛАЕВИЧ (Младший) (1856- 1929), вел. князь, сын Николая Николаевича (Старшего), генерал от кавалерии (1901). В 1895-1905 ген.-инспектор кавалерии, с … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ МИХАЙЛОВИЧ (1859-1919), вел. князь, внук имп. Николая I, генерал от инфантерии (1913), историк, поч. ч. Петерб. АН (1898). Монографии … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ КУЗАНСКИЙ (Nicolaus Cusanus) (Николай Кребс, Krеbs) (1401-64), философ, богослов, учёный, церк. и полит. деятель. Ближайший советник папы Пия II, … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ ДАМАССКИЙ (64 до н.э.- нач. 1 в. н.э.), др.-греч. историк. Из соч. дошли во фрагментах: "История" (в 144 кн.), … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ II (1868-1918), последний рос. император (1894-1917), старший сын имп. Александра III, поч. ч. Петерб. АН (1876). Его царствование совпало … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ I (1796-1855), рос. император с 1825, третий сын имп. Павла I, поч. ч. Петерб. АН (1826). Вступил на престол … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ I (?-867), папа Римский с 858; при нём произошёл разрыв с Вост. … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ из Отрекура (Nicolas d"Autrecourt) (ок. 1300 - после 1350), франц. философ, предст. номинализма. Преподавал в Париже. Критиковал схоластич. аристотелизм, … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ (в миру Бор. Дорофеевич Ярушевич) (1892-1961), церк. деятель. В 1922-24 в ссылке. В 1942-43 замещал местоблюстителя патриаршего престола митрополита … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ (в миру Ив. Дм. Касаткин) (1836- 1912), церк. деятель, с 1870 глава Рус. правосл. миссии в Японии, основатель Япон. … - НИКОЛАЙ в Большом российском энциклопедическом словаре:
НИКОЛ́АЙ (4 в.), архиепископ Мирликийский (г. Миры в Ликии, М. Азия), христ. святой, широко почитаемый в Вост. и Зап. … - НИКОЛАЙ
Басков, Рыбников, … - НИКОЛАЙ в Словаре для разгадывания и составления сканвордов:
Последний царь … - НИКОЛАЙ в словаре Синонимов русского языка:
имя, … - НИКОЛАЙ в Полном орфографическом словаре русского языка:
Николай, (Николаевич, … - НИКОЛАЙ в Современном толковом словаре, БСЭ:
(4 в.), архиепископ Мирликийский (г. Мир в Ликии, М. Азия), христианский святой-чудотворец, широко почитаемый в Восточной и Западной церкви. В … - НИКОЛАЙ в Большом современном толковом словаре русского языка:
м. Мужское … - НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ ОГАРЕВ в Цитатнике Wiki:
Data: 2008-01-05 Time: 18:12:03 Николай Платонович Огарев 1813 - 1877 - Русский общественный деятель, мыслитель, публицист, поэт, революционер-демократ.-Я всегда ненавидел … - КРАСНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Красновский Владимир Платонович (1889 - 1937), священник, священномученик. Память 12 ноября, … - ЧУБИНСКИЙ ПАВЕЛ ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Чубинский (Павел Платонович) - этнограф (1839 - 1884). Учился во 2-й киевской гимназии, потом в Петербургском университете. По окончании курса … - ЦЫТОВИЧ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Цытович (Николай Платонович) - ученый артиллерист, полковник. Родился в 1865 году; образование получил в симбирском кадетском корпусе и Михайловских артиллерийских … - СУМАРОКОВ ПАНКРАТИЙ ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Сумароков (Панкратий Платонович) - журналист и поэт (1763 - 1814), внучатый племянник известного писателя; детство провел в деревне, где до … - СТАЦЕНКО ВАДИМ ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Стаценко (Вадим Платонович) - военный инженер, родился в 1860 г. Окончил курс в Николаевском инженерном училище и Николаевской инженерной академии … - СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Смирнов (Александр Платонович, 1854 - 1900) - детский писатель. В "Семейных Вечерах", "Семье и Школе", "Роднике", "Детском Чтении", "Досуге и … - ОГАРЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Огарев, Николай Платонович - известный поэт (1813 - 1877). Родился в богатой дворянской семье Пензенской губернии. Получил превосходное домашнее воспитание, … - МАЛИНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Малиновский, Николай Платонович - духовный писатель, протоиерей. Окончил Московскую духовную академию. Главные его труды: "Православное догматическое богословие" (1908 и 1910), … - КРЫЛОВ ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Крылов Владимир Платонович - профессор патологической анатомии Харьковского университета (1841 - 1906), медицинское образование получил в санкт-петербургской медико-хирургической академии. Написал … - КИСЕЛЕВСКИЙ ИВАН ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Киселевский, Иван Платонович - известный драматический актер (1839 - 1898), воспитывался в морском кадетском корпусе; служил мичманом во флоте, затем … - КАРСАВИН ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Карсавин, Лев Платонович - историк. Родился в 1882 г., окончил курс на историко-филологическом факультете Петербургского университета, получив золотую медаль за … - КАЛЯЕВ ИВАН ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Каляев, Иван Платонович - революционер (1877 - 1905). Сын околодочного надзирателя, Каляев получил образование в Московском и Петербургском университетах. Во … - ЗАРУБАЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:
Зарубаев Николай Платонович - генерал-адъютант, генерал от инфантерии (1843 - 1912). С началом русско-японской войны назначен командиром 4-го сибирского корпуса. …
Российской империи Карабчевский Николай Платонович.
Родился будущий в военном поселке под Николаевом Херсонской губернии 30 ноября 1851 года в семье украинских помещиков.
В 1874 году Карабчевский Н.П. окончил юридический факультет Петербургского университета, однако чиновничья карьера для него была закрыта. На первых курсах университета молодой студент был уличен в студенческих «беспорядках» и в связи с чем, попал список неугодных власти лиц.
В этом же году Карабчевский Н.П. стал помощником присяжного поверенного Ольхина А.А., а затем Бровиковского А.Л. и Утина Е.И. Под началом популярных в те года адвокатов он проявил себя на юридическом поприще.
Выступая в судебных процессах Карабчевский Н.П. проявил себя как талантливый оратор. При этом он один из первых понял, что нельзя полагаться лишь на силу защитной речи в суде, поскольку мнение присяжных слагалось еще до начала прений сторон. По этому он большое внимание уделял допросу свидетелей. О таком умении Карабчевского Н.П. зналисудьи и прокуроры, а потому пытались заранее отвести его вопросы, но он решительно, хотя и в рамках своих правомочностей, отражал такие попытки.
Его ораторская манера была своеобразной и привлекательной, подобно Плевако П.А. и Кони А.Ф. он не писал свои судебные речи, а всецело полагался на импровизацию, пытаясь почувствовать публику.
Часто Карабчевскому Н.П. закидывали, что в его речах «больше голоса, чем слов», встречаются рассуждения «без всякой системы».
Приведу концовку речи за пересмотр дела Александра Тальма, осужденного в 1895 году на 15 лет каторги по обвинению в убийстве. Дело пересматривалось в 1901 году: «Гг. сенаторы, из всех ужасов, доступных нашему воображению, самый большой ужас – быть заживо погребенным. Этот ужас здесь налицо…Тальма похоронен, но он жив. Он стучится в крышку своего гроба, ее надо открыть!». Разумеется, живая речь Карабчевского Н.П. воздействовала куда сильнее. Дело пересмотрели и в том же году Тальма освободили.
Защитная речь Карабчевского Н.П. по политическому делу Сазонова была даже переведена на французский язык и помещена как Российских, так и в Европейских изданиях за 1905 год.
Народную любовь Карабческий Н.П. заслужил не тол талантом, но и подвижническим трудом, мало кто из адвокатов Росси мог с ним сравниться по числу процессов (уголовных и политических), в которых он принял участие. Сам он гордился тем, что ни одного из его подзащитных не было приговорено к смертной казни.
За свою практику Карабчевский Н.П. добился множества оправдательных приговоров по почти безнадежным делам. К примеру, обвиненные в убийстве Ольги Палме в 1895 году братьев Скитских; дело Мултанского 1896 года, дело Бейлиса М.Т. 1913 года и много других.
Активно занимался Карабчевский Н.П. и общественной деятельностью. Он был одним из учредителей газеты «Право» (1898-1917), благотворительного фонда для молодых адвокатов (1904), одним из создателей Всероссийского союза адвокатов (1905), председателем Петербургского совета присяжных поверенных (1913), председателем комиссии по расследованию германских зверств во время Первой мировой войны (1915).
Октябрьскую революцию 1917 года Карабчевский Н.П. не принял и эмигрировал сначала в Скандинавские страны, затем в Италию. Остаток своих лет провел не удел на чужбине. Умерон 6 декабря в Риме, где и похоронен.
После себя Карабчевский Н.П. оставил огромное творческое наследие, куда входят мемуары, судебные речи, рассказы и повести.
В блистательном ряду таких адвокатов, как В.Д. Спасович и Д.В. Ста-сов, Ф.Н. Плевако и А.И. Урусов, СА Андреевский и П.А. Александров, В.Н. Герард и В.И. Танеев, Л.А. Куперник и АЯ. Пассовер, Н.К. Муравьев и А.С. Зарудный, П.Н. Малянтович и О.О. Грузенберг, опыт которых мог бы служить образцом для нашей современной адвокатуры, одно из пер-вых мест принадлежит Николаю Платоновичу Карабчевскому. Впервые он заявил о себе еще в 1877 г. на процессе «193-х», в 80-е годы был уже знаменит, но и в начале XX в., когда выдающиеся адвокаты «первого при-зыва» большей частью отступили на второй план или ушли со сцены и вообще из жизни, Карабчевский оставался звездою первой величины, а последние 10 лет существования присяжной адвокатуры (после того как в 1907 г. устранился от дел и в 1908 г. умер Плевако) был самым автори-тетным и популярным адвокатом России.
Имя Карабчевского, которое когда-то почти 40 лет кряду гремело по всей России, сегодня знакомо только специалистам — больше юристам, чем историкам. Монографий о нем (как, впрочем, и о других знамени-тостях адвокатуры, кроме Плевако, — даже о «короле» ее Спасовиче) до сих пор нет, хотя он впечатляюще представлен во всех очерках по истории русского судебного красноречия , в словаре-альбоме П.К. Мартьянова «Цвет нашей интеллигенции» (3-е изд. СПб., 1890,1891, 1893) и даже в учебном пособии академика-лингвиста В.В. Виноградова , а в 1983 г. появился и первый специальный очерк о нем — квалифициро-ванный, но очень краткий, основанный на узком круге только печатных материалов . Между тем жизнь и судьба Карабчевского отражены в разнообразных источниках. Это в первую очередь — опубликованные речи, статьи, очерки, воспоминания самого Николая Платоновича , его друзей, коллег, современников , а также его обширный (1329 ед. хр.) архивный фонд , который содержит ценнейшие материалы, включая написанную неизвестным автором и правленую самим Карабчевским рукопись его биографии до 1890-х годов, правда с большим (Л. 15—52) пропуском.
Путь Карабчевского в адвокатуре от новичка до ярчайшей знамени-тости был крут и прям, хотя он и стал адвокатом чуть ли не через силу, по стечению неблагоприятных для него обстоятельств.
Родился он 30 ноября 1851 г. в Николаеве, на Украине. Мать его — Любовь Петровна Богданович — была потомственной украинской по-мещицей, а вот отец — Платон Михайлович, дворянин, полковник, ко-мандир уланского полка («образования домашнего», «арифметику знает», как засвидетельствовано в его формулярном списке), — имел экзотическое происхождение. «Во время завоевания Новороссийского края, — читаем в рукописной биографии Карабчевского, — каким-то русским полком был подобран турецкий мальчик, определенный затем в кадетский корпус и дослужившийся в военных чинах до полковника. Фамилия ему была дана от слова «Кара» — «Черный» . Этот турчонок, Михаил Карапчи, который принял с крещением фамилию Карабчевский и стал, в чине полковника, крымским полицмейстером , — дед Н.П. Карабчевского.
Николаю Платоновичу было всего полтора года, когда умер его отец. До 12-летнего возраста будущий адвокат воспитывался дома гувернанткой-француженкой и бонной-англичанкой, что помогло ему уже в дет-стве овладеть французским и, несколько хуже, английским языками. В 1863 г. он был принят в Николаевскую гимназию особого типа, «реаль-ную, но с латинским языком», окончил ее с серебряной медалью и в 1869 г. стал студентом Петербургского университета. Насколько далек был тогда юный Карабчевский от адвокатских и вообще юридических грез, видно из того, что он поступил не на юридический, а на естествен-ный факультет. Будучи по характеру любознательным и активным, он ходил на лекции к профессорам разных факультетов, причем наиболь-шее впечатление произвели на него именно юристы — П.Г. Редкин, Н.С. Таганцев, А.Д Градовский, И.Е. Андреевский. В результате Караб-чевский еще на первом курсе задумал было перейти в Медико-хирур-гическую академию, но передумал, едва заглянув в анатомический те-атр, а со второго курса все-таки перешел на юридический факультет университета.
Впрочем, сделал он это уже после того, как на первом курсе принял участие в студенческих «беспорядках», отбыл трехнедельный арест и тем самым резко осложнил и ограничил себе выбор профессии. Дело в том, что, блестяще окончив (весной 1874 г.) юридический факультет столичною университета, Карабчевский узнал: государственная, чинов-ничья карьера юриста перед ним закрыта. «Незадолго перед тем, — вспоминал он, — в университете было вывешено объявление, что лица, желающие поступить на службу по Министерству юстиции, должны иметь от университета особое удостоверение о своей благонадежнос-ти» . Карабчевский как участник студенческих «беспорядков» такого удостоверения получить не мог. Правда, его неблагонадежность не ме-шала ему вступить в адвокатуру как в учреждение самоуправляющее-ся, но к ней он все время студенчества и даже по окончании универси-тета относился недоверчиво из-за ее «суетного сутяжничества» и считал ее «малоподходящей» для себя.
Обдумав возможные варианты своей судьбы, Карабчевский решил стать... писателем. Он сочинил и отправил не далее чем в «Отечествен-ные записки» (журнал Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина) пятиактную «весьма жестокую» драму «Жертва брака». «Больше ме-сяца, стыдясь и волнуясь, — с юмором вспоминал Николай Плато-нович много лет спустя, — я каждый понедельник вползал как-то бо-ком, словно крадучись, в редакцию «высокоуважаемого» журнала за ответом. Иногда — о, счастье! — от «самого» Некрасова или же от «самого» Салтыкова я выслушивал отрывистые и даже как бы не-сколько грубоватые, похожие на окрики, ответы (наполнявшие, од-нако, мое сердце лучезарной надеждой), что, мол, рукопись еще не прочитана и надо прийти еще через две недели» . Кончилось тем, что рукопись вернули автору за ненадобностью, и такой конец при стольких надеждах так отрезвляюще подействовал на Карабчевского, что он «тут же порешил» раз навсегда отказаться от карьеры писате-ля. Только теперь он пришел к выводу: «Не остается ничего, кроме адвокатуры» .
В декабре 1874 г. Карабчевский записался помощником присяж-ного поверенного к А.А. Ольхину, от него перешел в качестве помощ-ника к А.Л. Боровиковскому и затем к Е.И. Утину. Под патронатом этих трех популярных адвокатов он быстро показал себя их достой-ным партнером. Кстати, именно Евгений Утин — первоклассный юрист с демократическими убеждениями (родной брат основателя и руководителя Русской секции I Интернационала Н.И. Утина) — пер-вым оценил Карабчевского «как выдающегося из молодежи уголовно-го защитника и стал поручать ему некоторые дела» . На процессе «193-х», где был представлен почти весь цвет российской адвокатуры, Карабчевский, пока еще помощник присяжного поверенного, высту-пал уже рука об руку с такими классиками судебного красноречия и политической защиты, как В.Д. Спасович, П.А. Александров, Д.В. Ста-сов, В.Н. Герард, А.Я. Пассовер, Е.И. Утин и др. К тому времени Нико-лай Платонович вполне освоился в адвокатуре, нашел в ней свое при-звание и отныне превыше всего ставил долг и честь присяжного поверенного .
Заглянем вперед и отметим здесь, что в марте 1917 г. Карабчевский отказался даже от кресла сенатора уголовного кассационного депар-тамента, которое предложил ему бывший тогда министром юстиции
А.Ф. Керенский «Нет, Александр Федорович, разрешите мне остаться тем, кто я есть, — адвокатом»
Личность Н.П. Карабчевского импонирует прежде всею разносто-ронностью интересов и дарований. Даже современным ценителям он «кажется почти невероятно многогранным» . В этом преувеличении есть большая доля правды: творческое наследие Карабчевского включа-ет в себя стихи, художественную прозу и критику, переводы, судебные очерки и речи, публицистику, мемуары. Николай Платонович не стал профессиональным литератором, но присущая ему с юных лет тяга к художественному творчеству находила выход в разных жанрах, кото-рыми он занимался между дел, на досуге, причем искусно. Такой авто-ритет, как В.В. Виноградов, признал в нем «писателя с несомненным литературным талантом» . Это доказывают изданные в разное время с 1885 г. и собранные воедино в 1905 г. две его повести (лирическая — «Приподнятая завеса» и драматическая — «Гастроль»), нашумевший автобиографический роман «Господин Арсков», в котором на строгий суд была «выставлена вся петербургская адвокатура» ; ряд поэтических опытов — например стихотворение «Раздумье», строки которого поны-не звучат злободневно:
Мир утомлен и жаждет обновленья.
Душа полна таинственных тревог,
Все испытав — и веру, и сомненье.
Ей нужен вновь или кумир, иль Бог .
С писателями Карабчевский имел обширные знакомства — впро-чем, не как литератор, а именно как адвокат. Он дружил с В.Г. Коро-ленко, был близко знаком с А.П. Чеховым , А.И. Куприным, Т.Л. Щеп- киной-Куперник, встречался с Л.Н. Толстым. Летом 1901 г. Николай Платонович впервые побывал у Толстого в Ясной Поляне и подарил ему книгу своих только что изданных «Речей» .
Адвокатские дела связывали Карабчевского и с научным миром. Так, в 1912 г. академик И.П. Павлов выбрал его своим представителем на суде чести против ученого-психиатра профессора К., статью которого о некой дозе алкоголя, безвредной для человека даже при ежедневном приеме, Павлов назвал «шарлатанской» . Но более всего (разумеется, кроме суда и адвокатуры) Николай Платонович был связан с миром искусств. В этом мире он пользовался известностью уже не столько адвоката (хотя и здесь решал какие-то юридические дела — к приме-ру, в 1915 г. поддержал иск Л.В. Собинова к дирекции Императорских театров ), сколько поклонника и покровителя муз.
Художественное начало в личности Карабчевского неудержимо влекло его ко всем музам сразу, а его богатство позволяло ему меценат-ствовать с равным удовольствием и размахом. Молодым он сам участво-вал в любительских спектаклях вместе с К.А. Варламовым и А.И. Южи-ным — по-видимому, успешно, если учесть, что знаменитой П.А. Стре- петовой для ее бенефиса в «Макбете» Шекспира предложили выбрать на роль Макбета одного из премьеров труппы Александринского теат-ра В.П. Далматова или... Н.П. Карабчевского. О том, как отреагировала Стрепетова на это предложение, читаем в воспоминаниях театроведа Б.В. Варнеке: «Их обоих она бесповоротно забраковала — Карабчевский будет только богатых клиенток подманивать, а Вася (Далматов. — И. Т.) хоть и Шекспира любит, но почему-то для трагических героев берет краски с тамбовского брандмейстера, и от них на версту фиксатуром да помадой воняет» .
Карабчевский был в дружеских отношениях с В.Ф. Комиссаржев- ской и О.Л. Книппер-Чеховой, К.А. Варламовым и Л.В. Собиновым . Правда, незадолго до 1917 г. Николай Платонович и Леонид Виталье-вич, по всей видимости, раздружились. Если в 1915 г. Собинов писал Карабчевскому: «Дорогой Николай Платонович» и подписывался: «Лю-бящий тебя Леонид Собинов» , то 1917-м годом датирована его желч-ная эпиграмма:
Н.П. КАРАБЧЕВСКОМУ
(по поводу его кандидатуры в посланники во Францию)
Кто под арест,
Кто в Красный Крест,
А кто — посол.
И ты не прочь В Париж, хоть вскочь,
Зато величайший комедийный актер России, «царь русского сме-ха» Константин Александрович Варламов (сын композитора А.Е. Вар-ламова) был неизменно и тесно привязан к Карабчевскому. Он мог прямо со сцены Александринки, по ходу спектакля, обратиться к «ми-лому другу», сидевшему, как обычно, в первом ряду партера: «А, Ни-колай Платонович! Как вам понравилась наша пьеса? Не знаю, как вы, а я чувствую себя в ней как дома! Да, не забудьте, милый, ко мне на пирог во вторник!»
На актерских вечеринках (капустниках) у Варламова Карабчевский познакомился с оперными звездами, супругами Николаем Николаеви-чем и Медеей Ивановной Фигнер, и с великой Марией Гавриловной Са-виной .
Когда Савина умерла, Карабчевский, бывший тогда председателем Петроградского совета присяжных поверенных, направил труппе Александринского театра телеграмму за своей подписью от имени все-го адвокатского сословия с выражением соболезнования и «глубокой скорби» .
В домашнем театре самого Карабчевского по субботам собира-лись для репетиций и благотворительных концертов все артистические знаменитости Петербурга . Здесь ставил свои новаторские спектакли В.Э. Мейерхольд . У Карабчевского «собирались артисты всех профес-сий, — вспоминала актриса и педагог проф. Е.И. Тиме. — Приглашение в этот дом подчеркивало степень популярности молодого выдвигающе-гося артиста» .
Все это помогало и карьере, и репутации Карабчевского, но при всей своей разносторонности, по натуре и призванию он все-таки был юрист, судебный оратор, «адвокат от пяток до маковки» . В нем почти идеаль-но сочетались самые выигрышные для адвоката качества. Высокий, стат-ный, импозантный, «с внешностью римского патриция» , красивый, «Аполлон, предмет оваций», как шутливо рекомендовали его коллеги , Карабчевский отличался правовой эрудицией , даром слова и логическо-го мышления, находчивостью, силой характера, темпераментом бойца. Специалисты особо выделяли его «стремительность, всесокрушающую энергию нападения, всегда открытого и прямого, убежденного в своей правоте» .
Подобно двум другим корифеям отечественной адвокатуры — П.А. Александрову и А.И. Урусову, — Карабчевский держался правила: «Вся деятельность судебного оратора — деятельность боевая» . Он мог заявить прямо на суде, что в его лице защита «пришла бороться с обви-нением» . Главная его сила и заключалась в умении опровергнуть даже, казалось бы, неоспоримую аргументацию противника.
Карабчевский чуть ли не первым из адвокатов понял, что нельзя по-лагаться только на эффект защитительной речи, ибо мнение суда — в особенности присяжных заседателей — слагается еще до начала пре-ний сторон, а поэтому «выявлял свой взгляд на спорные пункты дела еще при допросе свидетелей» . Допрашивать свидетелей он умел как никто. Вот характерный фрагмент из судебного отчета по делу Саввы Мамонтова в 1900 г. Идет допрос свидетелей. Только что задали вопро-сы Ф.Н. Плевако и В.А. Маклаков. «К свидетелю обращается Карабчев-ский. В зале водворяется тишина. Этот защитник, как видно из ряда громких процессов, где он участвовал, необыкновенно умело ставит вопросы свидетелям, причем ответ на них сам по себе уже не важен.
Самый вопрос своей формой, постановкой оказывается всегда, как справедливо заметил один из корреспондентов, чем-то «вроде ярлыка, точно и ясно определяющею факт», которым заинтересована защита» .
Судьи и прокуроры, зная об этом умении Карабчевского, пытались заранее отвести или, по крайней мере, нейтрализовать его вопросы, но он решительно, хотя и в рамках своей правомочности, отражал такие попытки. Один из клиентов Плевако рассказывал: «Вон Карабчевскому председатель суда сказал: «Господин защитник, потрудитесь не задавать таких вопросов!» А он встал и ответил: «Я, господин председатель, буду задавать всякие вопросы, которые, по моей совести и убеждению, слу-жат к выяснению истины. Затем я и здесь, на суде». А то прокурор — они это любят, «чтобы произвести впечатление», — говорит присяж-ным: «Прошу вас, господа присяжные заседатели, обратить внимание на это обстоятельство!» А Карабчевский и встань: «А я, господа присяж-ные заседатели, прошу вас обратить внимание на все обстоятельства дела!»
Ораторская манера Карабчевского была своеобразной и привлека-тельной. Б.Б. Глинский писал о нем, что, по сравнению с адвокатом-по- этом С.А. Андреевским, он «лишен беллетристической литературности, того поэтического колорита, которым блещет его коллега, но зато в его речах больше эрудиции, знакомства с правовыми нормами и широты социальной постановки вопросов» . Карабчевский говорил легко и эф-фектно, но «это не была только красивая форма, гладкая закругленная речь, струя быстро текущих слов . В речи Карабчевского было творче-ство — не прежнее, вымученное в тиши кабинета, это было творчество непосредственной мысли. Когда Карабчевский говорил, вы чувствовали, что лаборатория его, духовная и душевная, работает перед вашими гла-зами, и вы увлекались не столько красотой результата работы, сколько мощью этой работы» . Хорошо сказал о нем С.В. Карачевцев: «Он пред-ставлял собой красоту силы» .
Николай Платонович никогда не принадлежал к «пишущим» ора-торам, каковыми были, например, В.Д. Спасович или С.А. Андреевский. Подобно Ф.Н. Плевако, П.А. Александрову, А.Ф. Кони, он не писал за-ранее тексты своих речей. «Судебное следствие иногда переворачивает все вверх дном, — объяснял он это Льву Толстому. — Да и противно по-вторять заученное. По крайней мере, мне это не дается» . В статье об одном из лучших судебных ораторов России АЛ. Пассовере, который тоже не был «пишущим», Карабчевский так обрисовал его подготовку к защитительной речи, безусловно имея при этом в виду и себя самого: «Задолго до произнесения речи он всю ее подробно, до мельчайших деталей, не только обдумал, но и просмаковал в голове. Она не написа-на, т. е. ничто не записано словами на бумаге, однако ноты, партитура, не только готовы, но и разыграны. Это гораздо лучший прием для упражнения ораторской памяти, нежели простое записывание речи и затем механическое воспроизведение ее наизусть. При таком способе помнишь не слова, которые могут только стеснять настроение и ока-заться даже балластом, а путь своей мысли, помнишь этапы и труд-ности пути, инстинктивно нащупываешь привычной рукой заранее приготовленное оружие, которое должно послужить. При этом остает-ся еще полная свобода, полная возможность отдаться минуте возбуж-дения, находчивости и вдохновения» .
Критики Карабчевского находили, что в его красноречии «больше голоса, чем слов», «сила пафоса» вредит «ясности стиля», встречаются рассуждения «без всякой системы», поэтому на бумаге речи его «не звучат» . Эти упреки не совсем справедливы. Речи Карабчевского хо-рошо «звучат» и на бумаге: в них есть и пластичность («Русло проло-жено — следствие течет и журчит, убаюкивая и усыпляя»), и образ-ность («До первоисточника молвы труднее докопаться, нежели до центра зелми»), и экспрессия. Вот концовка речи 1901 г. за пересмотр дела Александра Тальма, осужденного в 1895 г. на 15 лет каторги по обвинению в убийстве: «Гг. сенаторы, из всех ужасов, доступных наше-му воображению, самый большой ужас — быть заживо погребенным. Этот ужас здесь налицо... Тальма похоронен, но он жив. Он стучится в крышку своего гроба, ее надо открыть!»
Но разумеется, живая речь Карабчевского, соединенная с обаянием его голоса, темперамента, внешности, звучала и воздействовала гораз-до сильнее. «Чтение его «Речей», — свидетельствовал близкий к нему
С.В. Карачевцев, — так же мало дает представления о его таланте, как партитура Мельника из «Русалки» или Мефистофеля из «Фауста» — о таланте Шаляпина: кто слышал, тот никогда не забудет; кто не слышал — никогда себе не представит» .
Всероссийское признание Карабчевский завоевывал не только та-лантом, но и подвижническим трудом. Мало кто из адвокатов России мог сравниться с ним по числу судебных процессов (уголовных и по-литических), в которых он принял участие. Уже к 1897 г. он, кроме г грех губерний Петербургского судебного округа, к которому был при-писан, побывал на защитах в Москве, Киеве, Казани, Нижнем Новго-роде, Ростове, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Каменец-По-дольске, Вильне, Либаве, Гельсингфорсе. «Карабчевского, — сказал о нем В.Д. Спасович на одном из адвокатских собраний 1898 г., — я не могу себе представить иначе, как в виде вагнеровского «Frieglende Hollander» (летучего голландца) . Может быть, поэтому Николай Пла-тонович поздно (лишь в 1895 г.) был избран членом Петербургского совета присяжных поверенных, войдя таким образом в круг, как тог-да говорили, «советских генералов».
Едва ли хоть один адвокат России так влиял на судебные приговоры по уголовным и политическим делам, как это удавалось Карабчевско- му. Он добился оправдания почти безнадежно уличенных в убийстве Ольги Палем в 1898 г. и братьев Скитских в 1900 г., предрешил оправ-дательные приговоры по мултанскому делу 1896 г. и делу М.Т. Бейлиса в 1913 г. Осужденному в 1904 г. на смертную казнь Г.А. Гершуни царь заменил виселицу каторгой не без воздействия искусной защиты Ка-рабчевского, а Е.С. Созонов (убийца всемогущего министра внутренних дел В.К. Плеве) в том же 1904 г. не был даже приговорен к смерти, «от-делавшись» каторгой. Сам Карабчевский гордился тем, что ни один из его подзащитных не был казнен .
Недоброжелатели Карабчевского по разным причинам (включая и зависть к нему) пытались объяснить его столь впечатляющие успехи беспринципностью, неразборчивостью в средствах защиты. В.А. Мак-лаков рассказывал, будто Карабчевский в Ясной Поляне у Л.Н. Толсто-го «целый вечер» хвастался тем, как он добился оправдания братьев Скитских, обвинявшихся в убийстве секретаря консистории Комаро-ва, а когда Толстой спросил: «Но кто же, по вашему мнению, Кома-рова убил?», Николай Платонович без зазрения совести ответил: «Не-сомненно, убил Степан Скитский», чем, естественно, шокировал Льва Николаевича . Именно таким бессовестным ловкачом представлен Ка-рабчевский в словаре-альбоме злоязычного «поэта-солдата» П.К. Марть-янова:
Юрист, записан в адвокатский цех,
И там, с добром мешая зло,
Он против всех, за всех, для всех Свое справляет ремесло .
Конкретное, очень громкое дело мещанки Ольги Палем, застрелив-шей в состоянии аффекта своего возлюбленного, студента (из дворян) Александра Довнара, который, как выяснилось, садистски издевался над ней, — это дело стало поводом для бойкой эпиграммы на Караб-чевского:
Не только тем он знаменит,
Что, как актер, он гладко брит,
Что, как премьер, всегда одет И написал роман^памфлет .
Нет, знаменит еще он тем,
Что был защитником Палем,
Что спас ее он без хлопот От тяжких каторжных работ,
Чтоб в мир пошла она опять:
Сперва любить, потом — стрелять .
Думается, дела, выигранные Карабчевским, вопреки намекам и сплетням, говорят, напротив, о принципиальности его юридической и нравственной позиции. Он сам формулировал свое профессиональное кредо таким образом: «Несправедливый приговор — огромное обще-ственное бедствие. Накопление подобных приговоров в общественной памяти и народной душе есть зло — такое же зло, как и накопление умственной лжи в сфере умственной жизни общества» . Следуя этому кредо, Карабчевский всегда изо всех своих сил, казавшихся порой бес-предельными, боролся против любого обвинения до тех пор, пока со-хранялось хотя бы малейшее сомнение в его доказанности.
Отчасти из этих соображений Николай Платонович в 1907 г. взял-ся защищать (вопреки своему обыкновению) высокопоставленного царского сановника, финляндского генерал-губернатора Н.Н. Герарда от надуманных обвинений А.С. Суворина и сотрудников его газеты «Новое время» в том, что Герард будто бы пренебрегал «русскими го-сударственными интересами» и попустительствовал сепаратистским стремлениям Финляндии «примкнуть к Скандинавским соединенным штатам» .
Как юрист, правовед, Карабчевский был воинствующим гуманис-том, таившим в себе «неиссякаемый источник отвращения к смерт-ной казни» . Вслед за B.C. Соловьевым он считал, что смертная казнь вообще «претит русской натуре»: «Петр Великий тщетно собственно-ручно рубил головы стрельцам. Несмотря на этот царственный при-мер, и сейчас у нас палач — тот же «Каин», тот же «продавший душу», каким его считали и встарь» . В страстных статьях против смертной казни («Смертная казнь», «О палачестве») Карабчевский доказывал несостоятельность ее института и с юридической, и с нравственной точки зрения. Он считал так: «Казнь всегда отвратительнее простого убийства и по массе в ней соучастников, и по безнаказанной торже-ственности, с которой убийство совершается. То, что делает, крадучись и под личной ответственностью, убийца, при казни делается открыто и безнаказанно. Здесь безнравственное явно пропагандируется, афи-шируется и санкционируется» .
Одну из своих «Маленьких речей» для еженедельника «Юрист» Ка-рабчевский так и назвал: «О смертной казни». В ней говорилось: «Я ни-когда не мог понять, как наш И.С. Тургенев мог смотреть, да еще крас-норечиво описать казнь Тропмана . Это могло с ним случиться разве только в Париже, атмосфера которого одурманивает здоровое нрав-ственное чувство. В России с ним бы этого не случилось. Я с ужасом ду-маю: как бы я поступил, если бы осужденный стал просить меня как за-щитника, чтобы я присутствовал при исполнении над ним приговора. Я бы не поручился за себя, что в последнюю минуту, обезумев, не бросился бы отнимать его от палачей, — так не мирится с моим созна-нием, со всеми основами моего нравственного существа представление о смертной казни» .
Итак, не беспринципность, а именно принципиальность — юриди-ческая и нравственная — побуждала Карабчевского бороться за своих подзащитных. Здесь важно учесть, что он, по свидетельству его помощ-ника, позднее видного советского ученого-юриста Б.С. Утевского (1887—1970), был «крайне осторожен в выборе клиентов» и отказы-вался от участия в делах юридически или нравственно несостоятельных, даже если ему сулили при этом большие гонорары . Среди тех, кто об-ращался к Николаю Платоновичу за юридической помощью и получил отказ, были продажный журналист В.П. Буренина и знаменитая при-ма-балерина М.Ф. Кшесинская. Прогнав Буренина, Карабчевский выру-гался: «Руки хочется помыть после таких субъектов. Экая мразь!» Что же касается Кшесинской, то на ее просьбы вскоре после Февральской революции 1917 г. «замолвить слово у Керенского», чтобы оградить ее от возможных репрессий, Николай Платонович ответил: «Ведь вы Кше-синская, а можно ли в такое время хлопотать за Кшесинскую!» (с на-меком на ее связь с великокняжеским семейством. — Н. Т.).
Впрочем, была в защитительной манере Карабчевского и сугубо лич-ная, совершенно уникальная особенность, о которой нам стало извест-но лишь из воспоминаний Б.С. Утевского, впервые изданных в 1989 г. Как-то, после 1910 г., уже стареющий Карабчевский, отвечая на вопрос Утевского, почему столь многоопытному адвокату «особенно удаются речи по делам об убийствах», рассказал то, о чем знали только его дру-зья (в частности, С.А. Андреевский). Оказывается, будучи студентом, Николай Платонович «в состоянии невменяемости» (как это призна-ла экспертиза) убил любимую им женщину, и потрясшие его тогда переживания так или иначе учитывал потом в защитительных речах. «Сколько я в своей душе покопался и до, и после убийства! — воскли-цал он. — Этого на сто защитительных речей хватит...»
Зато политических указателей Карабчевский как юрист не призна-вал. Он сторонился «политики» и даже бравировал своим аполитизмом. «Я, господа, — заявил он на процессе по делу М.Т. Бейлиса, — не поли-тик и сознаюсь, что ни в каких политических организациях и партиях вполне сознательно не принимаю участия. Я есть, был и умру судебным деятелем» . Как внепартийный юрист он сочинял иронические эпиг-раммы обо всех партиях. Вот эпиграмма на кадетов:
Мы — кадеты!
В тоги одеты,
Римляне мы Светоч средь тьмы!
Эпиграмма на эсеров:
Мы ярко-красны,
Видом ужасны:
Пуля — реформа,
Бомба — платформа.
И на социал-демократов:
Жаждем мы мира Для всего мира,
Счастья без меры Ценой химеры.
Не участвуя ни в каких политических партиях и считая (как он го-ворил о себе) «неприемлемыми для адвоката замкнутость партийно-сти и принесение в жертву какой-либо политической программе ин-тересов общечеловеческой морали и справедливости» , Карабчевский имел, конечно, вполне определенные политические взгляды. Б.С. Утев- ский определял их как праволиберальные («правее кадетов», «что-то между октябристом и кадетом»), а В.И. Смолярчук считает лево-либе-ральными . Пожалуй, точнее сказать, Карабчевский эволюционировал от левого либерализма (примерно до 1905 г.) к правому.
В революционном движении он вообще никогда не видел «никакой практической пользы», полагая, что и декабризм, и нигилизм 60-х го-дов, и терроризм 70-х имели более гуманную и плодотворную альтер-нативу, не реализованную отчасти по вине революционеров, а именно — «мирную просветительную работу» . Этому убеждению Карабчевский был верен всю жизнь начиная с памятного для него эпизода, когда революционеры-народники попытались вовлечь его в свои ряды. Зимой 1877/78 г., в дни процесса «193-х» подзащитная Николая Платонови-ча Е.К. Брешко-Брешковская (та самая, кого в 1917 г. эсеры назовут «ба-бушкой русской революции») внушала ему на свидании с ним в своей тюремной камере, «как было бы хорошо, если бы он, оставаясь адво-катом, примкнул к их конспиративной работе». Карабчевский «шарах-нулся от подобного предложения»: «Не кровью и насилием возродит-ся мир. Низменное средство пятнает самую высокую цель. Для меня террорист и палач одинаково отвратительны!» Брешковская тогда «глубоко задумалась», но протянула ему руку: «Бог с вами, оставайтесь праведником... предоставьте грешникам спасать мир». «Когда я в пос-ледний раз захлопнул за собою тюремную дверь, — вспоминал о том свидании Карабчевский, — мне показалось, что я оставил живую в мо-гиле. Может быть, про меня она, наоборот, подумала: «Ушел живой мертвец» .
Отвергая в принципе революцию, Карабчевский был столь же не-терпим и к реакции. Он осуждал власть за то, что та избавляется от не-довольных и протестующих «только виселицами, ссылками, каторгой и тюрьмами и официально диктуемым молчанием в печати. А следова-ло поступать как раз наоборот: из числа фрондирующих, либеральству- ющих, сколько-нибудь выдающихся общественных сил правительство должно было вбирать в себя периодически все самое энергичное, жиз-неспособное» . В еженедельнике «Юрист» под редакцией Карабчевско-го 16 января 1905 г. был напечатан фельетон Александра Яблоновско- го «Под суд!», обличавший «величайшее бесправие русских граждан, издевательство над законом, поругание личности» , а 10 июля там же Карабчевский сам выступил за «поголовную чистку и смену лиц, сто-ящих во главе современной бюрократии, вконец дискредитирован-ной...» . Можно представить себе, как Николай Платонович воспринял распутинщину. «Лично меня, — вспоминал он позднее, — нередко умо-ляли написать «только два слова» Распутину относительно исходатай- ствования помилования то одному, то другому осужденному, уверяя, что именно авторитетная просьба, поддержанная им, будет иметь вер-ный успех. Я не согрешил ни разу. Чувство нравственной брезгливости каждый раз заставляло меня наотрез, не входя ни в какие подробнос-ти, отказываться от подобных дел» .
Неудивительно, что с 1869 г., когда 18-летний Карабчевский был арестован за участие в студенческих волнениях, он, по крайней мере, до 1905 г. оставался под жандармским подозрением и надзором как «неблагонадежный». В 1878 г. жандармы инкриминировали ему уча-стие в антиправительственной панихиде , в 1899 — сбор средств в пользу нелегального Красного Креста , в 1900 и 1903 гг. — «неумест-ные суждения о действиях администрации» на судебных процессах . В конце 1903 г. директор Департамента полиции А.А. Лопухин по поручению министра внутренних дел В.К. Плеве вызвал к себе Караб-чевского и потребовал от него под угрозой административной ссылки отказаться от публичных разоблачений жандармского беззакония . Николай Платонович не стал отказываться и в 1904 г. принял участие в трех коллективных акциях протеста против карательной политики, включая декабрьское письмо 112 литераторов и ученых (В.Г. Королен-ко, В.И. Семевского, П.Ф. Якубовича и др.), которое было опубликова-но нелегально .
Антиправительственные настроения Карабчевского имели под со-бой не только юридическую и нравственную, но и семейную опору. Он был женат первым браком (1876—1902) на сестре народовольца
С.А. Никонова Ольге Андреевне, революционно настроенной и неиз-менно помогавшей борцам против самодержавия, «как только мог-ла» . В 1887 г. перед отправкой Никонова в ссылку по делу о покуше-нии на цареубийство Карабчевский вызвался быть шафером на его свадьбе с народоволкой Н.В. Москопуло в церкви Дома предвари-тельного заключения , а в 1897 г. принял к себе помощником только что отбывшего административную ссылку другого брата своей жены А.А. Никонова . Наконец, после того как сестра Ольги Андреевны вышла замуж за социалиста-революционера Б.Н. Никитенко, Караб-чевский оказался свояком страшного террориста (21 августа 1907 г.
Никитенко, обвиненный в «приготовлении к цареубийству» , был по-вешен).
Все сказанное плюс ряд блистательных выступлений на политиче-ских процессах, о которых речь пойдет особо, обеспечило Карабчевскому широкую популярность в радикальных кругах. Поэтому на его юбилей (25 лет работы в звании присяжного поверенного) 13 декабря 1904 г. к не-му съехались, наряду с умеренно-либеральными адвокатами «первого при-зыва» — АЛ. Пассовером, А.Н. Турчаниновым, В.О. Аюстигом, П.А. Поте- хиным — «ультралевые», по выражению самого Карабчевского, лидеры т. н. «молодой адвокатуры»: Н.Д. Соколов, А.А. Демьянов, П.Н. Перевер- зев, ФА. Волькенштейн, Б.Г. Барт (Лопатин) и др. Здесь и случился инци-дент, который вызвал отклики даже в прессе Англии и Германии .
После ряда застольных речей без всякой политики левые начали про-износить спичи «митингового» характера. «Меня, — вспоминал Караб-чевский, — чуть не провозгласили анархистом и будущим главою рево-люции. Жена моя, терпеливо до тех пор слушавшая, вдруг поднялась во весь рост и, чеканя каждое слово, <...> сказала, что не может допустить, чтобы в ее присутствии и в ее доме позволяли себе вести революцион-ную пропаганду». Все левые тут же «демонстративно шумно» встали и направились к выходу. «Мое положение было не из веселых, — как бы оправдывался Карабчевский много лет спустя. — Провожая их у дверей, я просил их остаться, но не находил возможным ни оправдывать их ми-тинговых выступлений, ни извиняться за вполне естественный при ее стойких убеждениях протест жены».
Да, незадолго до того юбилея Карабчевский вступил во второй брак с Ольгой Константиновной Варгуниной — дочерью бумажного толсто-сума, представленного даже в словаре-альбоме П.К. Мартьянова «Цвет нашей интеллигенции»:
Почтенный финансист и фабрикант,
Покрыл всю Русь своей бумагой,
И миллионами разумный коммерсант В делах ворочает с отвагой .
В качестве приданого Николай Платонович получил роскошный особняк на Знаменской улице Петербурга (дом № 45), построенный великим Б. Растрелли , и огромное состояние, что, может быть, и под-винуло его вправо — как бы навстречу убеждениям новой супруги. По свидетельству Б.С. Утевского, «Карабчевский не любил ее, но боялся и терпел ее злобные выходки. Как и все черносотенцы, она была сканда-листкой» .
Если в первый брак Карабчевский вступал по любви , то во второй, несомненно, по расчету, хотя к 1904 г. он был в зените славы, «умел и любил получать огромные гонорары» и мог бы даже без варгунинских миллионов жить в материальном отношении припеваючи. Впрочем, мог ли? Послушаем хорошо осведомленного Б.С. Утевского: «Караб-чевский не ценил денег. Огромные гонорары, которые он получал, бы-стро таяли в его руках. Он широко раздавал деньги, охотно давал «в долг без отдачи». Я точно знал (из его завещания, при составлении которого я был свидетелем), что у него почти не было накоплений» . К тому же на политических процессах Карабчевский выступал защитником без-возмездно.
Об участии Карабчевского в политических процессах надо говорить особо. Б.С. Утевский с чувством уважительной озадаченности констати-ровал: «Особенно удивительно, что Карабчевский при всей его романти-ческой природе, при его весьма ограниченных политических взглядах был исключительно блестящ как политический защитник. В речах на политических процессах он настолько внутренне сживался с подсуди-мым, что начинал мыслить, как он, смотреть на все его глазами, иногда даже говорить его словами. Карабчевский в таких случаях был смелым и мужественным и возвышался до подлинного пафоса и художественнос-ти» . Как политический защитник Карабчевский, пожалуй, выше всех отечественных адвокатов, поскольку П.А. Александров редко выступал и рано умер, не успев проявить себя в полную мощь своих дарований, а «король адвокатуры» В.Д. Спасович при всех его достоинствах на поли-тических процессах грешил принижением обвиняемых, чтобы таким образом облегчить их участь.
Процесс «193-х» (18 октября 1877 — 23 января 1878 г.) — первый и самый крупный из политических процессов, на которых Карабчев- скому довелось выступить как защитнику, — стал для него своего рода боевым крещением, навсегда определившим его сочувствие к борцам за свободу, к их политическим идеалам и нравственным качествам, ис-ключая лишь их подпольные «крайности». Он и спустя полвека не мог забыть «революционное credo» Ипполита Мышкина, ратовавшего со скамьи подсудимых за «наисправедливейшую форму будущего строя»: «Оно потрясло и захватило всю аудиторию. <...> Проповедь Мышкина, я убежден, запала глубоко не в одну молодую душу». Она запала и в душу молодого Карабчевского. Он с волнением слушал трибуна револю-ции, а когда жандармы схватили Мышкина, пытаясь зажать ему рот, Николай Платонович, «потеряв голову, угрожающе бросился на жан-дармского офицера с графином в руках...» .
На процессе «193-х» помощник присяжного поверенного Караб-чевский только набирался опыта как политический защитник, хотя уже тогда блеснул искусством опровергать обвинение: из трех его под-защитных двое были оправданы. В дальнейшем уже как присяжный поверенный Карабчевский ни на одном политическом процессе не от-ступал на второй план. С 1878 до 1917 г., как правило, он вел полити-ческие дела либо один, либо во главе группы адвокатов. Так, на знаме-нитом разбирательстве мултанского дела 1896 г. против удмуртских крестьян, провокационно обвиненных в «человеческом жертвоприно-шении», где среди четырех защитников выступил В.Г. Короленко, Ка-рабчевский был настоящим «бодзим-восясь» (верховным жрецом) защиты . Именно он после шквального допроса свидетелей опроверг юридическую базу обвинения, установив: «все открытое оказалось по-догнанным под ранее намеченное» , после чего оправдательный при-говор был предрешен. Карабчевский же возглавлял защиту на сходном по своей провокационно-политической сущности, всемирно извест-ном процессе 1913 г. по делу М.Т. Бейлиса — киевского конторщика, еврея, который тоже был обвинен в ритуальном убийстве. И здесь Николай Платонович в блестящей защитительной речи не оставил от обвинения камня на камне, а телеграф разнес по всему свету: «Бейлис оправдан».
Впрочем, Карабчевский блистал не только на крупных и громких процессах. Он мог привлечь внимание и к делу скромному, как, напри-мер, первое в России дело кадетов (собственно, членов Союза освобож-дения — ядра будущей Конституционно-демократической партии) Е.В. Аничкова и А.В. Борман (Тырковой) весной 1904 г. По поводу запис-ки антиправительственного содержания, извлеченной при обыске у Аничкова «из корзины для ненужных бумаг», Карабчевский здесь зая-вил: «Мы миримся с мыслью, что у нас нет свободы слова, но как отнять у себя уверенность, что у нас есть, по крайней мере, свобода мысли? Мало ли что я могу набросать у себя и для себя на бумаге! Этого у чело-века отнять никто не может, как нельзя отнять у него право дышать. Я могу быть убежденнейшим революционером в мысли, могу поверять свои заветные думы бумаге, завещать их далекому потомству, когда рас-пространение их перестанет быть преступлением. Я не вправе лишь со-чинить нечто предназначаемое для распространения, чего распростра-нять нельзя под страхом наказания» .
На политических процессах Карабчевский буквально сражался за своих подзащитных (как в последнем случае за Аничкова), рискуя пе-рейти ту «демаркационную» линию, которая отделяла защитника от подсудимого. С наибольшей силой это его качество сказалось на двух процессах 1904 г., которые и принесли ему самую большую сла-ву. Это процессы по делам Григория Гершуни и, особенно, Егора Со- зонова.
Дело основателя и руководителя Боевой организации эсеров Г.А. Гер-шуни слушалось 18—25 февраля 1904 г. в Петербургском военно-окружном суде. Стараниями сыска и следствия, а также благодаря председательству судившегося здесь же боевика Е.К. Григорьева, Гершу-ни был подведен под смертный приговор необратимо. Однако Караб-чевский нашел пути к спасению его жизни. Во-первых, он юридически и нравственно акцентировал тот факт, что обвиняемый лично ни в одном из террористических актов не участвовал. Главное же, Карабчев-ский настойчиво в ходе всего процесса изыскивал и фиксировал в конструкции обвинения малейшую неопределенность. Так, в ответ на заключение одного из экспертов, что он «с почти полной несомненно-стью» удостоверяет подпись Гершуни на улике против него, Николай Платонович воскликнул: «Гг. судьи! Сказать «почти» в таком вопросе недостаточно, ибо не можете же вы подсудимого Гершуни «почти» повесить!» Судя по записям, сохранившимся в архиве Карабчевского, он установил и констатировал на суде, что в деле Гершуни «главными и почти единственными уликами являются оговоры, сделанные с целью смягчения собственной участи» .
Отчасти расшатав таким образом обвинение, Карабчевский «создал атмосферу, в которой можно было поднять вопрос о замене для Гершу-ни смертной казни пожизненной каторгой» . Но Гершуни категоричес-ки отказался просить о помиловании: «У нас это не принято» . Тогда Карабчевский решил подать такую просьбу от своего имени, «что до сих пор не практиковалось» . На последнем свидании с Гершуни в ка-мере смертника он заявил своему подзащитному: «Меня, соприкоснув-шегося с вами и с вашим делом не в качестве вашего единомышленни-ка, а только как защитника, вы не вправе лишать общих прав человека и гражданина — протестовать лично против смертной казни и действо-вать в данном случае сообразно моим собственным убеждениям. Я по-дам просьбу о помиловании от своего имени и под своей личной ответ-ственностью, в ней не будет сказано, что просите о помиловании вы, просить, т. е., по-вашему, «унижаться» буду я».
«Заявление мое, — вспоминал Карабчевский, — было категорично. Приберег я его к самому концу свидания и, не ожидая ответа, протя-нул руку для прощания» . В таком положении Гершуни не счел нуж-ным возражать.
По ходатайству Карабчевского император Николай II заменил Гер-шуни смертную казнь пожизненной каторгой. Гершуни был отправлен в Акатуйскую каторжную тюрьму (в Забайкалье), откуда уже через год бежал за границу. Перед тем как бежать, он написал Карабчевскому бла-годарственно-дружеское письмо, которое тот получил «нелегальным пу-тем» и бережно хранил у себя .
На процессе Е.С. Созонова в Петербургской судебной палате 30 но-ября 1904 г. положение Карабчевского (как и его подзащитного) было еще труднее. Созонов, схваченный на месте преступления, после того как он взорвал своей бомбой бронированную карету, в которой ехал к царю министр внутренних дел и шеф жандармов В.К. Плеве, был обре-чен на смертную казнь. Единственный и притом микроскопический шанс спасения для него Карабчевский увидел в том, чтобы переключить хотя бы отчасти внимание суда и общества от преступления Созонова против человека по имени Плеве на ряд преступлений самого Плеве против человечности. Этот шанс он использовал максимально. В яркой, поистине вдохновенной защитительной речи он доказывал, что Созо-нов был движим не чувством мести лично Плеве, а идеей самопожерт-вования ради общего блага: «Отнимая у другого человека жизнь — жизнь, которую он считал опасною и гибельною для родины...
Председатель 1 . Прошу не употреблять таких выражений!
Карабчевский. Он охотно отдавал за нее и собственную, молодую, полную сил жизнь, как плату за свою отважную решимость. Какую еще более дорогую плату он мог предложить для засвидетельствования всей искренности и всего бескорыстия побудивших его мотивов?»
Главное же, продолжал Карабчевский, Созонов решился на самопо-жертвование под воздействием «объективных условий»: «После убий-ства министра Сипягина вакантное место занял Плеве. Балмашев был повешен. В обществе воцарилось гробовое молчание. Печать — един-ственная выразительница общественного настроения — или подне-вольно молчала, или заискивала у всесильного министра, раболепство-вала перед ним...
Председатель. Я лишу вас слова, если вы еще раз позволите себе по-добные выражения!
Карабчевский. Печать, к сожалению, безмолвствовала.
Председатель. Я же остановил вас!
Карабчевский. Вы остановили меня, но не остановили моей мысли, и она продолжает работать. Я должен дать ей выход...»
Выдержав паузу, Карабчевский закончил речь впечатляющей ата-кой на карательную политику Плеве и всего царского режима. «Он (Плеве. — Н. Т.) настоял на повешении Балмашева, он заточил в тюрьмы и послал в ссылку тысячи невинных людей, он сек и расстреливал крестьян и рабочих, он глумился над интеллигенцией, сооружал мас-совые избиения евреев в Кишиневе и Гомеле, он задушил Финляндию, теснил поляков, он влиял на то, чтобы разгорелась наша ужасная вой-на с Японией, в которой уже столько пролито и еще столько прольет-ся русской крови... Созонову казалось, что Плеве — чудовище, которое может быть устранено только другим чудовищем — смертью. И, при-нимая трепетными руками бомбу, предназначенную для Плеве, он верил, свято верил в то, что она начинена не столько динамитом, сколько слезами, горем и бедствиями народа. И когда рвались и раз-летались в стороны ее осколки, ему чудилось, что это звенят и разби-ваются цепи, которыми опутан русский народ...
Председатель. Я запрещаю вам! Вы не подчиняетесь! Я принужден буду удалить вас!
Карабчевский. Так думал Созонов.- Вот почему, когда он очнулся, он крикнул: «Да здравствует свобода!»
Процесс Созонова стал звездным часом для Карабчевского, а его «со- зоновская» речь — событием не только в жизни Николая Платоновича, но и в истории российской адвокатуры. После речи П.А. Александрова в защиту Веры Засулич (1878) ни одна из защитительных речей на поли-тических процессах в России не производила столь сильное впечатление на современников, как речь Карабчевского по делу Созонова. Хотя до 1916 г., когда текст ее появился в 3-м издании «Речей» Карабчевского, цензура числила «созоновскую» речь в категории запретных, широкие общественные круги все равно знакомились с ней по нелегальным и за-рубежным изданиям, спискам и устным рассказам, а в 1911 г., к 60-ле-тию Н.П. Карабчевского, его помощники осуществили подарочное изда-ние этой речи «тиражом»... в 1 экземпляр.
«Единственный экземпляр, — вспоминал об этом Б.С. Утевский, — был издан с исключительной роскошью и художественным вкусом, бла-годаря взявшему на себя художественное оформление книги прекрасно-му графику Георгию Нарбуту. Книга печаталась в лучшей русской типографии Голике и Вильборга на пергаменте. Сафьяновый переплет был сделан по эскизу Нарбута. Все заглавные буквы, виньетки, форзац были от руки сделаны тушью самим Нарбутом. Цензура не разрешала печатать эту речь Карабчевского, но так как издавался один экземпляр, мы договорились с цензором. Карабчевский был рад этой книге. Он хра-нил ее в своем письменном столе.
Когда в 1921 г., — продолжал Утевский, — я приехал с Украины в Петербург, то сделал попытку разыскать архив Карабчевского и эту книгу. <...> В особняке Карабчевского помещался госпиталь. Отыскал коменданта. О Карабчевском он никогда не слышал. Никакого иму-щества Карабчевского не оказалось. Не нашел я и речи по делу Созо- нова. Судьба ее осталась неизвестной. Может быть, она стоит на полке в чьем-либо книжном шкафу. Может быть... В одном я убежден: вряд ли она уничтожена, слишком она была хороша!»
Феномен Карабчевского как политического защитника таит в се-бе одну загадку: как соотнести его умеренные политические взгляды (вспомним ироническую эпиграмму Николая Платоновича на эсеров) с его же страстной защитой террористов Гершуни и Созонова? По-ви-димому, разгадка здесь такова: юрист, а не политик, как он сам о себе говорил, и гуманист, Карабчевский защищал не столько политические идеалы революционеров (их средства борьбы он вообще отвергал), сколько их право на свободу мнений и личности, право на жизнь. Во всяком случае, он имел больше, чем кто-либо, оснований заявить 16 мая
1916 г. он имени корифеев российской адвокатуры: «Мы были всюду, куда нас звал сословный долг к защите права и справедливости. С Бреш- ковской, Перовской, Засулич, Гершуни, Созоновым и всеми передовы-ми борцами и мучениками за свободу <...> мы стояли бок о бок, за-щищая их своей грудью. Мы смело боролись за их участь, за их судьбу свободным словом» .
Российская присяжная адвокатура, благодаря таким людям, как Н.П. Карабчевский, за полвека своего существования добилась многого. Она противостояла всякому беззаконию, в любых условиях отстаивала нормы права, а на политических процессах вырывала у карательного мо-лоха старых и привлекала к ним новых борцов, — словом, тоже вплета-ла лавры в тот, по выражению народовольца АД. Михайлова, «терновый и вместе лавровый венец»
Николай Платонович Карабчевский (1851–1925)
«НЕСРАВНЕННЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ»
Карабчевский беспощадно бился за своего клиента, защищал его «до последней капли крови» и пускал в ход все средства, которые не были запрещены законом. Свидетелей допрашивал напористо и азартно. Лгущих свидетелей обвинения своими хлесткими вопросами он припирал к стене и буквально вырывал у них правду.
Николай Платонович Карабчевский родился 29 ноября 1851 года в военном поселении под городом Николаевом Херсонской губернии. Отец его, Платон Михайлович, в это время командовал уланским его высочества герцога Нассауского полком. По отцовской линии род Карабчевского турецкого происхождения. Еще во времена Екатерины II, при взятии Очакова, был пленен мальчик-турчонок, родители которого погибли. Какой-то генерал царской армии отвез мальчика в Петербург и определил в военный корпус. Фамилию ему дали произвольно, от слова «кара», что значит «черный». С тех пор все предки Карабчевского, как правило, служили в армии, чаще всего в кавалерии.
Образованием Николая Карабчевского занимались сначала дома. К детям были приглашены лучшие учителя, а для Николая даже выписали из Марселя француженку, поэтому французским языком он владел великолепно. Несколько хуже знал английский. В двенадцатилетнем возрасте мальчик поступил в только что открытую в Николаеве гимназию особого типа: она была реальная, но с латинским языком. Окончил ее Николай Платонович с серебряной медалью. В 1869 году он поступил на естественный факультет Санкт-Петербургского университета. Учеба увлекала одаренного юношу, но естественные науки несколько ограничивали его пылкую натуру, и тогда он заинтересовался юриспруденцией, стал посещать лекции известных профессоров - Н. С. Таганцева, П. Г. Редкина и других. Не чуждался и общественной жизни, активно участвовал в «студенческих беспорядках», за что университетским судом был даже приговорен к трехнедельному аресту.
В 1870 году Карабчевский окончательно расстался с естественным факультетом университета и перевелся на юридический, который блестяще окончил спустя четыре года. В эти годы у Николая Платоновича была заветная мечта - стать писателем, точнее, драматургом, очень уж неудержимо его влекло к театру. С юных лет он выступал на любительской сцене, где ему приходилось играть даже главные роли. Он сыграл Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума», Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Его перу принадлежит драма «Жертва брака», но она вышла довольно слабой, и попытка напечатать ее на страницах «Отечественных записок» потерпела неудачу.
Молодой человек оказался на распутье. Перед ним остро встал вопрос - чем заниматься дальше. Сам Карабчевский так пишет об этом: «Для меня было ясно, что на государственную службу я не поступлю. А на адвокатуру во время своего студенчества я глядел свысока. Она мне представлялась всегда не чуждой некоторого суетливого сутяжничества, и я считал ее мало подходящей для моей натуры, более склонной, как мне казалось тогда, к мечтательному созерцанию окружающей жизни, нежели к энергичной, практической деятельности». Но после долгих размышлений Карабчевский все же решил записаться в присяжные поверенные, хотя облик российского «ходатая» и «стряпчего» его, по собственному признанию, не пленял. В декабре 1874 года он предложил свои услуги адвокату А. Ольхину, с которым был знаком в студенческие годы. Тот сразу же согласился взять Николая Платоновича помощником и помог ему написать прошение в совет присяжных поверенных.
Вскоре Карабчевский выступил в суде по первому своему делу - он защищал крестьянского парня из Тверской губернии Семена Гаврилова, обвинявшегося в краже со взломом. Это небольшое дело с самой незатейливой фабулой запомнилось ему на всю жизнь. Семнадцатилетний Семен Гаврилов, приехав в Петербург, за три рубля снял угол у квартирной хозяйки. Занимался он сапожным ремеслом, выручал в месяц до двенадцати рублей, жил скромно и тихо. Однако вдруг повадился в публичный дом, стал пьянствовать, задолжал за квартиру и, вконец промотавшись, совершил кражу, похитив из сундука другого постояльца носильные вещи и рублей пять денег, а после этого пропал. Потерпевший сам отыскал его и привел к хозяйке, но Семен стал от всего отказываться, хотя на нем узнали краденую рубашку. Вызвали полицию, но и перед следователем Гаврилов в краже не повинился.
Когда Карабчевский взялся за защиту Гаврилова, первым делом он отправился в Литовский замок, где содержался арестованный, и с большим трудом убедил его во всем повиниться, рассчитывая, что присяжные заседатели проявят к нему снисхождение. После этого начал готовиться к процессу. «До слушания дела оставалось еще пять дней, - рассказывал впоследствии Карабчевский, - мне же казалось, что это ужасно мало. Сколько хотелось сообразить, перечесть, передумать! Я зачастил в публичную библиотеку, перелистал всю юридическую литературу о малолетних преступниках, прочитал по тому же предмету кое-что из области медицинской… Дня через два-три речь, помимо моей воли, была готова в моей голове. Кульминационным в ней моментом, помимо молодости и увлечения первой непреоборимой страстью тревожного периода юности, явилось именно указание на вполне свободное и невынужденное сознание подсудимого. Раньше он всюду запирался». До процесса оставалось два дня, и тут произошло событие, буквально выбившее у Карабчевского почву из- под ног. Дело в том, что рядом с ним проживал некий дворянин, окончивший Александровский лицей, не состоявший на службе, а живший на небольшой доход со своего имения, при этом склонный к философствованию. По словам Карабчевского, именно с этим дворянином и произошла история, ставшая внешней фабулой знаменитого романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Карабчевский поведал ему, что должен выступать в суде и что очень рассчитывает на оправдание своего подзащитного, для чего и уговорил его во всем чистосердечно признаться.
Дворянин выдал Карабчевскому гневную тираду. Суть ее заключалась в том, что адвокат сам приближает своего клиента к тюрьме, облегчив присяжным заседателям возможность обвинить его, что у большинства присяжных «рабья подоплека» и они никогда не оправдают сознавшегося, а вот когда преступник запирается, то они, боясь взять грех на душу, отпускают его. Встревоженный этим разговором, Карабчевский наутро помчался в Литовский замок, встретился с Гавриловым и, смущаясь, дал понять, что даже признание своей вины не является гарантией в том, что присяжные оправдают подсудимого. Выслушав защитника, Гаврилов спокойно ответил: «Что врать-то? Мы в сознании…» Настал день суда. «Я был жалок, когда направлялся на свою первую защиту с портфелем, для чего-то нагруженным и объемистым уложением, и уставом уголовного судопроизводства, но с совершенно пустой головой», - вспоминал Карабчевский.
Дело шло первым. Доставили подсудимого. Когда Гаврилова ввели в зал, то он вдруг сказал Карабчевскому: «Ваше благородие, мы не в сознании!» «Я начал ощущать, как медленно раздвигается подо мною пол, как я проваливаюсь в преисподнюю вместе с моей речью», - говорил впоследствии Карабчевский. После формальностей с присяжными заседателями и свидетелями зачитали обвинительный акт. Карабчевский понимал, что приближается его «погибель». Он был настолько взволнован, что с трудом воспринимал происходящее. Наконец до его слуха донеслись слова председателя, обращенные к подсудимому: «Ну что же, вы признаете себя виновным?» Только теперь Карабчевский сообразил, что председатель задает этот вопрос его подзащитному в третий раз. И здесь, в напряженной тишине, Гаврилов выдавил из себя: «Мой грех!» - и разрыдался, как ребенок. Когда он немного успокоился, то во всем повинился. После этого суд и присяжные отказались даже от допроса свидетелей. Карабчевский писал: «На всех произвели сильное впечатление искренность и неожиданность сознания подсудимого». Присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт. Более того, когда все разошлись, старшина присяжных положил в руку Карабчевскому несколько смятых кредитных бумажек, сказав, что это присяжные собрали для подсудимого на первое время.
Довольно быстро Карабчевский стал приобретать популярность. Лишь только был оглашен оправдательный приговор Гаврилову, тут же к адвокату обратился один из участвовавших в этом деле присяжных заседателей с просьбой принять на себя защиту интересов его матери, которую пристав грозился «потащить» к мировому судье - она якобы нарушила строительный устав, соорудив при ремонте дома деревянную лестницу вместо каменной.
Карабчевский выступал в процессах как по уголовным, так и по политическим делам. В конце 1877 - начале 1878 года Николай Платонович принимал участие в знаменитом процессе «ста девяноста трех». Здесь он оказался в окружении целого созвездия блестящих присяжных поверенных. Среди защитников были П. А. Александров, Г. В. Бардовский, Л. Л. Боровиковский, В. Н. Герард, М. Ф. Громницкий, Л. Я. Пассовер, П. А. Потехин, В. Д. Спасович, Д. В. Стасов, доктор права Н. С. Таганцев и другие. И только трое помощников присяжных поверенных удостоились чести быть в этом списке: Н. П. Карабчевский, В. М. Бобрищев-Пушкин и Грацианский.
Николай Платонович защищал одну из главных обвиняемых, Е. К. Брешко-Брешковскую, которую впоследствии стали называть «бабушкой русской революции» (она умерла в Праге на девяносто первом году жизни), а также А. В. Андрееву и В. П. Рогачеву. Хотя первая из них все же была приговорена к пяти годам каторги, речь Карабчевского произвела сильное впечатление. Двое других его подзащитных были оправданы. Спустя сорок лет он вспоминал: «Мы сидели на процессе в течение многих месяцев, побросав другие дела, - и какая проявилась высота понимания своих задач.
Это был „политический“ процесс. Но не подумайте, что все ограничивалось либеральными выступлениями и партийной лирикой - нет, проявлено было изумительное, почти пророческое понимание общественного, бытового и исторического значения процесса, в речах чуялось бесстрашное углубление в самую толщу почвы, на которой процесс развился. Были чудные речи… Я помню наши овации по адресу речей Александрова, Герарда, Бардовского и многих других, речи которых были для нас целым откровением, этими воспоминаниями я хочу сказать, что на протяжении менее десятка лет был уже подготовлен целый кадр защитников для самых сложных, самых ответственных и боевых в то время процессов».
Находясь после Октябрьской революции в эмиграции, Карабчевский выпустил два тома воспоминаний «Что глаза мои видели». В них, описывая процесс «ста девяноста трех», он отмечает, что среди подсудимых было несколько выдающихся личностей во главе с И. Н. Мышкиным. «Своими речами на суде он „зажигал сердца“ молодежи, выступая убежденным до фанатизма революционером-пропагандистом, - писал Карабчевский. - Я сам ночи не спал после его страстных выступлений. Порою слова его казались мне непреложным откровением. Ярко помню кульминационный момент процесса, когда Мышкин исчерпывающе высказал свое знаменитое „кредо“: „Всеобщее народное восстание“. Оно потрясло и захватило всю аудиторию».
На процессе «ста девяноста трех» произошел такой эпизод. Когда во время речи Мышкина жандармы бросились зажимать ему рот, адвокаты Бардовский, Стасов, Утин и некоторые другие обступили его, требуя записать в протокол, что жандармы позволяют себе бить подсудимых. Карабчевский же, по собственному признанию, «потеряв голову, угрожающе бросился на жандармского офицера с графином в руках».
В ходе процесса и после его окончания Карабчевский много раз встречался со своей подзащитной Брешко-Брешковской, которая прониклась искренней симпатией и доверием к молодому адвокату и даже склонна была вовлечь его в революционную борьбу. На это Николай Платонович сказал: «Не кровью и насилием возрождается мир… Для меня „террорист“ и „палач“ одинаково отвратительны». Тогда революционерка, крепко пожав Карабчевскому руку, сказала на прощание: «Бог с вами, оставайтесь праведником… предоставьте грешникам спасать мир. Я иду в каторгу… а вы на волю, к радостям жизни. Спасибо вам за все!»
Впоследствии Карабчевский выступал на политическом процессе «семнадцати» и некоторых других подобных процессах. Оценивая их с точки зрения общественного к ним отношения, уже после революции он писал, что в те годы «интеллигенция благоразумно-выжидательно „тайно аплодировала“, а обыватели и народ пока только ротозейно недоумевали».
В 1879 году Карабчевский стал полноправным адвокатом, вступив в сословие присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты. Он часто выступал по самым громким процессам того времени. Слава его как блестящего защитника возрастала изо дня в день, началась же она после блестящей речи по так называемому интендантскому делу, которое слушалось в Особом присутствии Петербургского военно-окружного суда с 18 февраля по 17 апреля 1882 года. В этом «процессе-монстре», как называл его Карабчевский, защита была представлена такими известными адвокатами, как В. И. Жуковский, А. И. Урусов, С. П. Марголин, и некоторыми другими. Суду были преданы шестнадцать интендантов и подрядчиков во главе с действительным статским советником В. П. Макшеевым, бывшим окружным интендантом Рущукского отряда действующей армии в турецкой кампании 1877 года. Все они обвинялись в злоупотреблениях при поставках продовольствия в армию. Поскольку в числе подсудимых было лицо в генеральском чине (чин действительного статского советника приравнивался к генеральскому), то и Особое присутствие состояло исключительно из генералов. Председательствовал член Главного военного суда В. К. Слуцкий, обвинение поддерживал военный прокурор барон Остен-Сакен и его помощники Рыльский и Иллюстров.
Еще задолго до процесса общественное мнение было настроено против главного обвиняемого Макшеева. В печати на него появились резкие нападки, обсуждалась не только его прошлая деятельность, но и особенности личности. Все считали, что едва ли найдется адвокат, согласный защищать человека, вина которого «столь вопиюща». Чтобы противостоять одностороннему освещению в печати обстоятельств дела, Макшеев стал издавать свою газету «Эхо». Но это, по выражению Карабчевского, «подлило только масла в огонь». «Можно смело утверждать, - пишет он, - что защита Макшеева прошла под дружный аккомпанемент неодобрительного шипения и свиста всей нашей ежедневной печати». Интригу процессу придавало еще и то, что Рущукским отрядом командовал наследник цесаревич, в 1881 году вступивший на российский трон под именем Александр III, а начальником штаба у него был генерал-майор И. С. Ванновский, ставший к началу рассмотрения дела военным министром.
Свою защитительную речь Карабчевский произносил шесть часов с двумя небольшими перерывами. Досконально изучив многотомное дело (достаточно сказать, что один обвинительный акт составлял четыреста страниц), Николай Платонович шаг за шагом разрушал обвинение, воздвигнутое против его подзащитного. Конечно, добиться полного оправдания по такому делу было невозможно. По приговору суда Макшеева сослали на жительство в Томск, а через несколько лет помиловали.
В ноябре-декабре 1884 года в Санкт-Петербургском окружном суде Карабчевский совместно с адвокатом В. Ф. Леонтьевым защищал подсудимого И. И. Мироновича, обвинявшегося в убийстве еврейской девочки Сары Беккер. Обвинял подсудимого товарищ прокурора окружного суда И. Ф. Дыновский. Это дело вызвало в свое время много шума в столице, поэтому Карабчевский начал свою речь так: «Господа присяжные заседатели! Страшная и многоголовая гидра - предубеждение, и с нею-то прежде всего приходится столкнуться в этом злополучном деле. Злополучном с первого судебного шага, злополучном на всем дальнейшем протяжении процесса. Преступление зверское, кровавое, совершенное почти над ребенком, в центре столицы на фешенебельном Невском, всех, разумеется, потрясло, всех взволновало. Этого было уже достаточно, чтобы заставить немного потерять голову, даже тех, кому в подобных случаях именно следовало бы призвать все свое хладнокровие».
Далее, постепенно разбивая все доводы обвинения, он подводил к мысли о невиновности Мироновича. А свою речь закончил так: «Нам всем бы хотелось, чтобы ларчик похитрее открывался. А он открывается просто: Миронович не виновен. Начните с этого и кончите этим: оправдайте его! Вы не удалитесь от истины». Однако убедить присяжных заседателей Николай Платонович не смог. Они вынесли вердикт: «Виновен», на основании которого суд приговорил Мироновича к каторжным работам на четыре года. На этот приговор Карабчевский принес кассационную жалобу, рассмотренную Правительствующим сенатом в феврале 1885 года. В отношении Мироновича приговор был отменен, и дело направлено на вторичное разбирательство.
2 октября 1885 года Санкт-Петербургский окружной суд с новым составом присяжных заседателей вторично приступил к рассмотрению этого дела. Процесс длился девять дней. Обвинение поддерживал товарищ прокурора окружного суда В. М. Бобрищев-Пушкин. На этот раз Карабчевский противостоял ему в паре с другим замечательным адвокатом С. А. Андреевским. Николай Платонович сразу же сказал, что он, будучи глубоко убежден в невиновности Мироновича, не покидал обвиняемого с самого возбуждения дела и считает своей обязанностью защищать правое, честное дело до конца, хотя теперь его помощь почти уже не нужна. Причину предания Мироновича суду и первого осуждения, сказал он, надо видеть в неудовлетворительности предварительного и судебного следствия, в допущенных ошибках, пристрастности и односторонности со стороны лиц, производивших дело. «Было бы странно, если бы веденное ложным путем следствие вывело на настоящую дорогу, - все толкало судей сбиться с пути, запутаться в лабиринте, созданном искусной рукой». А заключил свою речь словами: «Для меня, господа присяжные заседатели, Миронович давно уже перестал быть сыщиком, ростовщиком, взяточником; для меня остается только больной несчастный старик, поруганный, загнанный, застигнутый неслыханным горем; это заживо погребенный, - от вас зависит дать ему вздохнуть». Затем выступил присяжный поверенный С. А. Андреевский, который произнес в защиту Мироновича одну из лучших своих речей. На этот раз И. И. Миронович был оправдан. Правительствующий сенат оставил без последствий кассационный протест прокурора.
Незадолго до вторичного рассмотрения дела Мироновича Карабчевский защищал в Петербургском военно-окружном суде поручика артиллерии В. М. Имшенецкого, обвинявшегося в тяжком преступлении - преднамеренном утоплении своей жены, находившейся на четвертом месяце беременности. Это было не менее громкое и сенсационное дело. 31 мая 1885 года в одиннадцатом часу вечера на реке Малой Невке, между Петровским мостом и садом «Бавария», с лодки, в которой находились Имшенецкий и его жена Мария Ивановна, урожденная Серебрякова, послышался мужской голос, призывавший на помощь. Перевозчик-яличник Ф. Иванов тотчас поспешил туда и увидел Имшенецкого, плавающего рядом с пустой лодкой, а в саженях двух далее - дамскую шляпку. Иванов принял офицера в свой ялик и высадил на берег, где тот и рассказал, что жена упала в воду, переходя с руля на весла. Предпринятые энергичные поиски жены не увенчались успехом. Лишь через десять дней тело всплыло. Никаких признаков внешнего насилия на теле погибшей не нашли. Всех занимал вопрос, что это было: несчастный случай или убийство?
Следствие обвинило поручика Имшенецкого в том, что он, женившись в феврале 1884 года на дочери купца Серебрякова, Марии Ивановне, вскоре после брака склонил жену сначала на выдачу ему полной доверенности на управление ее домом, а спустя месяц после свадьбы и на составление духовного завещания с отказом в его пользу принадлежащего ей дома и всего движимого имущества, а затем во время прогулки по реке «действиями своими вызвал падение ее в воду, вследствие чего она утонула». Было установлено, что Имшенецкий незадолго до злополучной лодочной прогулки заставлял жену принять меры «к изгнанию плода». На суде обвинение поддерживал помощник военного прокурора Болдырев. В качестве поверенного гражданского истца, отца погибшей, выступал адвокат В. М. Бобрищев-Пушкин.
Карабчевский в своей речи со страстью доказывал, что подсудимый - не тиран-преступник, «перешагнувший спокойно через труп», а всего лишь «жалкая, беспомощная игрушка печального сцепления грустных обстоятельств» и к этой последней роли как нельзя более подходит его «безвольная и дряблая натура». И далее: «Итак, господа судьи, на основании тщательного, кропотливого исследования самого факта падения в воду покойной я вправе утверждать, что убийство не доказано, не доказан и злой умысел со стороны Имшенецкого на основании исследования его личности и тех внутренних условий его семейной жизни, которые ставились ему в улику». А вот концовка этой речи: «Я не позволю себе навязывать вам своего внутреннего убеждения: пусть оно остается там, где ему быть надлежит, - не на языке только, а в глубине моего сердца, в глубине моей совести. Одну лишь уверенность после восьми дней, проведенных перед лицом вашим, господа судьи, позволю я себе громко высказать: я убежден, что приговор ваш будет и глубоко продуман, и глубоко справедлив».
После шестичасового совещания суд вынес приговор. Имшенецкий был признан не виновным в предумышленном убийстве своей жены, но признан виновным в неосторожности, последствием которой была смерть Марии Ивановны. Суд приговорил его к аресту на гауптвахте на три недели и церковному покаянию по усмотрению его духовного начальства.
В сентябре - ноябре 1894 года Карабчевский защищал в Одесском окружном суде капитана парохода «Владимир» капитана 2-го ранга К. К. Криуна. Его вместе с капитаном итальянского судна «Колумбия» Пеше и некоторыми другими должностными лицами обвинили в том, что из-за нарушения законов безопасности мореплавания произошло столкновение судов, обернувшееся гибелью семидесяти шести человек. Карабчевский сумел доказать, что капитан Криун является «более несчастным, нежели виновным человеком». Хотя суд признал его вину, но осудил всего на четыре месяца тюрьмы и церковное покаяние. Однако менее чем через месяц определением суда на основании всемилостивейшего Манифеста Криун был от наказания освобожден.
В феврале 1895 года в Санкт-Петербургском окружном суде Карабчевский защищал Ольгу Палем, обвинявшуюся в убийстве студента Данилова. После его трехчасовой речи присяжные заседатели оправдали подсудимую. Однако через несколько дней по указанию министра юстиции Н. В. Муравьева прокуратура опротестовала этот приговор. Правительствующий сенат оперативно рассмотрел протест. В Сенате у Карабчевского были достойные противники - дело докладывал сенатор Н. С. Таганцев, а заключение давал обер-прокурор А. Ф. Кони. После довольно продолжительного совещания приговор суда был отменен. В тот же день О. Палем снова была взята под стражу, а 18 августа 1896 года признана виновной в непреднамеренном убийстве и приговорена к десятимесячному тюремному заключению.
В последующие годы в активе Карабчевского были не менее сенсационные процессы. Популярность его была так велика, что одно только участие в процессе делало сам процесс громким. «Ни один русский адвокат не завоевал такой славы, - отмечал С. В. Карачевцев, - не превратил так своего имени в нарицательное, не поднял на такую высоту блеска и славы звания защитника».
Карабчевский защищал братьев Скитских, обвинявшихся в убийстве, - после нескольких процессов они были оправданы, и мултанских вотяков - этих крестьян из села Старый Мултан дважды приговаривали к каторге по обвинению в ритуальном убийстве, но после вступления в дело Карабчевского оправдали. В известном процессе Бейлиса, прогремевшем на всю Россию, Карабчевский тоже во многом способствовал оправданию обвиняемого. Участвовал он в делах революционеров-террористов Г. А. Гершуни и Е. С. Сазонова, а также многих других.
Хорошо знавший Карабчевского С. В. Карачевцев писал: «Природа даровала Николаю Платоновичу особую способность строить речь красиво и сильно, всей душой отдаваться интересам своего подзащитного, а глубокая эрудиция обогатила эту Речь образами поэзии и искрами философской мысли».
Успех в самых трудных процессах сопутствовал Карабчевскому еще и потому, что он блестяще вел судебное следствие. Здесь он был и юристом, и психологом, и художником, и аналитиком. Помогал ему и «несравненный темперамент». Современники отмечали, что его реплики и замечания во время следствия - «настоящий ураганный огонь, перед которым не мог устоять ни свидетель, ни прокурор, ни даже председатель». «Карабчевский брал не красотой, а страшной неслыханной силой, - заметил как-то С. В. Карачевцев. - Он загорался от прикосновения к делу, как к живому существу».
В 1895 году Карабчевского избрали в состав Совета присяжных поверенных Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1913 году он стал его председателем и оставался на этом посту до Октябрьской революции. «Трезвый проницательный ум, беспощадная логика мысли, громадная эрудиция и блестящее красноречие, - вот что отличало Карабчевского всю жизнь и выдвинуло его в ряды наших лучших общественных деятелей, которыми вправе гордиться Россия. Его громадное общественное влияние сказалось и на всем сословии адвокатуры в долголетнюю бытность его председателем Совета петербургских присяжных поверенных», - писал С. В. Караченцев.
Николай Платонович не оставлял и увлечения своей юности - литературного творчества. Сотрудничал в газете «Неделя» и других, писал публицистические и юридические заметки. С середины 1880-х годов публиковал юридические статьи и очерки в журналах «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское богатство» и прочих. В 1901 году Карабчевский выпустил сборник своих речей. В предисловии он писал: «Вся деятельность судебного оратора - деятельность боевая. Это - вечный турнир перед возвышенной и недосягаемой „дамой с повязкой на глазах“. Она слышит и считает удары, которые наносят друг другу противники, угадывает и каким орудием они наносятся… Разве не естественно желать сохранить хоть „на память“ случайно уцелевшие образцы того оружия, которым приходилось сражаться всю жизнь».
В 1902 году вышла книга Карабчевского «Около правосудия», переизданная в 1908 году. Он редактировал также журнал «Юрист», посвященный суду и адвокатам. Написал ряд прозаических и поэтических произведений: роман «Господин Арсков», «Стихотворения в прозе», рассказы, очерки, эссе, а также мемуары, вышедшие в 1921 году.
В творчестве Николая Платоновича С. В. Карачевцев подметил интересную особенность. Многие известные адвокаты занимались литературным трудом (С. А. Андреевский, К. К. Арсеньев, В. Д. Спасович и др.), но в своем творчестве они как бы переставали быть адвокатами, а становились критиками, публицистами, поэтами. Карабчевский же и здесь оставался только адвокатом. В романе «Господин Арсков» он вывел двух присяжных поверенных - себя и Андреевского. Даже в Благородном собрании, в любительском спектакле, он играл роль человека, невинно осужденного на каторгу.
После Февральской революции, которую Карабчевский встретил настороженно, А. Ф. Керенский, получивший должность министра юстиции и генерал-прокурора, предложил Николаю Платоновичу должность сенатора уголовного кассационного департамента Правительствующего сената, но тот отказался от такой «чести».
Вот как передает этот диалог С. В. Карачевцев: «- Николай Платонович, - сказал порывисто Керенский, - хотите быть сенатором уголовного кассационного департамента? Я имею в виду назначить несколько сенаторов из числа присяжных поверенных…
Нет, Александр Федорович, разрешите мне остаться тем, что я есть, - адвокатом, - поспешил ответить Николай Платонович. - Я еще пригожусь в качестве защитника…
Кому? - с улыбкой спросил Керенский. - Николаю Романову?
О, его я охотно буду защищать, если вы затеете его судить!
Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх, и все поняли, что это намек на повешение.
Только не это, - дотронулся до его плеча Николай Платонович, - этого мы вам не простим!
Так и не соблазнил Керенский Карабчевского. Только впоследствии Николай Платонович согласился на место председателя в комиссии по расследованию немецких зверств, но ведь это было всего лишь составление обвинительных актов».
Советскую власть Карабчевский не признал и эмигрировал.
Николай Платонович был женат на Ольге Андреевне, родной сестре народовольца С. А. Никонова.
Карабчевский Н.П. Речь в защиту Мироновича
Господа присяжные заседатели!
Страшная и многоголовая гидра - предубеждение, и с нею-то прежде всего приходится столкнуться в этом злополучном деле. Злополучном с первого судебного шага, злополучном на всем дальнейшем протяжении процесса. Преступление зверское, кровавое, совершенное почти над ребенком, в центре столицы на фешенебельном Невском, всех, разумеется, потрясло, всех взволновало. Этого было уже достаточно, чтобы заставить намного потерять голову, даже тех, кому в подобных случаях именно следовало бы призвать все свое хладнокровие. Ухватились за первую пришедшую в голову мысль, на слово поверили проницательности первого полицейского чина, проникшего в помещение гласной кассы ссуд и увидевшего жертву, лежащую на кресле с раздвинутыми ногами и задравшейся юбкой. В одной этой позе усмотрели разгадку таинственного преступления.
Достаточно было затем констатировать, что хозяином ссудной кассы был не кто иной, как Миронович, прошлое которого будто бы не противоречило возможности совершения гнусного преступления, насилия, соединенного с убийством, и обвинительная формула была тут же слажена, точно сбита накрепко на наковальне. Не желали идти по пути дальнейшего расследования!
Первую мысль об «изнасиловании» покойной Сарры подал околоточный надзиратель Черняк. Кроме «раздвинутых» ног и «приподнятой юбки», в наличности еще ничего не было. Но всякая мысль об убийстве с целью грабежа тотчас же была бесповоротно оставлена. Когда вслед за Черняком в квартиру проник помощник пристава Сакс (бывший судебный следователь), дело было уже бесповоротно решено. Проницательность «бывшего» судебного следователя была признана непререкаемой. Она-то с бессознательным упорством стихийной силы и направила следствие на ложный путь. К часу дня
28 августа (то есть дня обнаружения убийства), когда налицо были все представители (вплоть до самых высших) следственной и прокурорской власти столицы, слово «изнасилование» уже, как ходячая монета, было всеобщим достоянием.
Тут же после весьма «оригинального» судебно-следственного эксперимента, о котором речь ниже, Миронович был арестован и отправлен в дом предварительного заключения. На следующий день,
29 августа, весь Петербург знал не только о страшном убийстве, но и о «несомненном» виновнике его - Мироновиче. Против «злодея» недаром едва ли не на самом месте совершения преступления была принята высшая мера предосторожности - безусловное содержание под стражей. С этого момента «убийство Сарры Беккер» отождествилось с именем Мироновича в том смысле, что «убийца» и «Миронович» стали синонимами. От этого первого (всегда самого сильного) впечатления не могли отрешиться в течение всего производства дела, оно до конца сделало ужасное дело. Мироновича предали суду.
А между тем даже и тогда, на первых порах, в деле не имелось абсолютно никаких данных, которые давали бы право успокоиться на подобном «впечатлении».
Характерно отметить, насколько пестовали и лелеяли это «первое впечатление», насколько прививали его к сознанию общества на протяжении всего предварительного «негласного» следствия. Пока речь шла о виновности именно Мироновича, в газетах невозбранно печатались всякого рода сообщения. Зарудный, например, на все лады жевал и пережевывал данные, «уличающие Мироновича», и прокурорский надзор молчал, как бы поощряя усердие добровольцев печати в их лекоковском рвении. Но как только появилась на сцену Семенова и одна из газет вздумала поместить об этом краткую заметку, прокурорский надзор тотчас же остановил дальнейшее «публичное оглашение данных следствия». Гласность именно в эту минуту оказалась почему-то губительной. Так и не удалось сорвать покров таинственности с «первого впечатления», которое до конца осталось достоянием правосудия.
Что же было в распоряжении властей, когда Миронович был публично объявлен убийцей и ввержен в темницу?
Прошлое Мироновича воспроизводится в обвинительном акте не только с большой подробностью, оно им, так сказать, смакуется в деталях и подробностях. В этом прошлом обвинительная власть ищет прежде всего опоры для оправдания своего предположения о виновности Мироновича. Но она, по-видимому, забывает, что как бы ни была мрачна характеристика личности заподозренного, все же успокоиться на «предположении» о виновности нельзя. Ссылка на прошлое Мироновича нисколько не может облегчить задачи обвинителям. Им все же останется доказать виновность Мироновича. Этого требуют элементарные запросы правосудия.
Раз «прошлое» Мироновича и «характеристика его личности» заняли так много места в обвинительном акте и еще больше на суде - нам, естественно, придется говорить и об этом. Но как от этого далеко еще до его виновности, будь он трижды так черен, каким его рисуют!
Да позволено мне будет, однако, ранее посильной реабилитации личности подсудимого отделаться от впечатлений, которые навеяны совершенно особыми приемами собирания улик по настоящему делу. Они слишком тяготят меня. Не идут у меня из головы два момента следствия, одно из области приобщения улики, другое из области утраты таковой. Я хотел бы сказать теперь же об этом несколько слов и не возвращаться к этому более.
Утрачено нечто реальное, осязаемое. Вы знаете, что в первый же день следствия пропали волосы, бывшие в руках убитой девочки. Если бы они были налицо, мы бы сравнили их с волосами Семеновой. Если бы это «вещественное доказательство» лежало здесь, быть может, даже вопроса о виновности Мироновича больше не было. Волосы эти не были седые, стриженые, какие носит Миронович. Волосы эти были женские, черного цвета. Они были зажаты в руках убитой. Это была, очевидно, последняя попытка сопротивления несчастной. Эти волосы могли принадлежать убийце. Но их нет! Они утрачены. Каждый судебный деятель, понимающий значение подобного «вещественного доказательства», легко поймет, что могло быть вырвано из рук защиты подобной утратой.
По рассказам лиц, отчасти же и виновных в их утрате, нас приглашают успокоиться на мысли, что это были волосы самой потерпевшей. В минуту отчаяния она вырвала их из своей собственной головы. Но не забывайте, что это только посильное «предположение» лиц, желающих во что бы то ни стало умалить значение самой утраты. Устраненный от производства дальнейшего следствия Ахматов этого предположения удостоверить на суде не мог. Положенный на бумагу единственный волос, снятый с покойной, «по-видимому», оказался схожим с волосами потерпевшей, но не забывайте при этом, что волосы покойной Сарры и Семеновой почти (или «по-видимому» - как хотите!) одного цвета. При таком условии защита вправе печалиться об утрате волос, тем более что единственно уцелевший волос мог действительно выпасть из головы самой потерпевшей. Но такого же ли происхождения была та горсть черных волос, зажатых в руке убитой, об утрате которых повествует нам обвинительный акт, - останется навсегда вопросом. Мы знаем только, что эти волосы были «черные»… Но ведь и у Семеновой волосы несомненно черные.
Как бы в компенсацию этой несомненной «вещественной» утраты предварительным следствием приобщено нечто невещественное. Я затрудняюсь назвать и характеризовать эту своеобразную «улику», отмеченную на страницах обвинительного акта.
Очень подчеркивалось, подчеркивается и теперь, что Миронович не пожелал видеть убитой Сарры, что он уклонялся входить в комнату, где находился ее труп, несмотря на неоднократные «приглашения». Ссылался он при этом на свою нервность и «боязнь мертвецов» вообще.
Казалось бы, на этом и можно было поставить точку, делая затем из факта выводы, какие кому заблагорассудится. Дальше идти не представлялось никакой возможности уже в силу категорического содержания 405 статьи Устава Уголовного судопроизводства, воспрещающей следователю прибегать к каким бы то ни было инквизиционным экспериментам над обвиняемым, некогда широко практиковавшимся при старом судопроизводстве. Следователь на это и не пошел. Но в обвинительном акте на белом черным значится так: «…но в комнату, где лежал труп, он (Миронович), несмотря на многократные приглашения, не пожелал войти, отказываясь нервностью, и вошел туда только один раз и то вследствие категорического предложения прокурора С.-Петербургской судебной палаты Муравьева».
Как же отнестись к этому процессуальному моменту? Заняться ли подробным анализом его? Лицо, произведшее над обвиняемым этот психологический опыт, не вызвано даже в качестве свидетеля. Мы бессильны узнать детали. Нам известно только, что Миронович в конце концов все-таки вошел в комнату, где лежал труп Сарры. В обморок он при этом не упал… Не хлынула, по-видимому, также кровь из раны жертвы… Думаю, что обвинительный акт, при своей детальности, не умолчал бы об этих знаменательных явлениях, если бы «явления» действительно имели место.
Итак, никакой, собственно, «психологии» в качестве улики этот процессуальный прием не делал. Да и психология-то, правду сказать, предвкушалась какая-то странная. Бесчеловечно заставлять глядеть человека на мертвеца, когда этот человек заявляет, что он мертвецов боится. При всей своей очевидной незаконности эксперимент к тому же оказался и безрезультатным.
Приобретение не стоит, таким образом, утраты, хотя в одинаковой мере приходится поставить крест и на том и на другом «доказательстве».
Возвратимся к более реальным данным следствия.
Особенно охотно и тщательно собиралось все, что могло неблагоприятно характеризовать личность Мироновича. Но и сугубая чернота Мироновича все же не даст нам фигуры убийцы Сарры Беккер. Недостаточно быть «бывшим полицейским» и «взяточником» и даже «вымогателем», чтобы совершить изнасилование, осложненное смертоубийством. С такими признаками на свободе гуляет много народа. Стало быть, придется серьезно считаться лишь с той стороной нравственных наклонностей Мироновича, которые могут иметь хотя бы какое-нибудь отношение к предмету занимающего нас злодеяния.
Что же приводится в подтверждение предполагаемой половой распущенности Мироновича, распущенности, доходящей до эксцессов, распущенности, способной довести его до преступного насилия? Констатируется, что, имея жену, он жил ранее с Филипповой, от которой имел детей, а лет семь назад сошелся с Федоровой, с которой также прижил детей.
Ну, от этого до половых «эксцессов», во всяком случае, еще очень далеко! Притом же жена Мироновича, почтенная, преклонных уже лет женщина, нам и пояснила, как завязались эти связи. Вследствие женской болезни она давно не принадлежит плотски мужу. Он человек здоровый, сильный, с ее же ведома жил сперва с Филипповой, потом с Федоровой, и связь эта закреплена временем. Детей, рожденных от этих связей, он признает своими. Где же тут признаки патологического разврата или смакования половых тонкостей? Здоровый, единственно возможный в положении Мироновича, для здорового человека, осложненный притом самой мещанской обыденностью выход. Нет, - было бы воистину лицемерием связи Мироновича с Филипповой и Федоровой, матерями его детей, трактовать в виде улик его ничем ненасытимой плотской похоти!
Надо поискать что-нибудь другое. Когда очень тщательно ищут, всегда находят. А здесь наперебой все искали, очень хотели уличить «злодея».
Прежде других нашел Сакс («бывший следователь»). Он сослался на свидетельницу Чеснову, будто бы та заявила ему что-то о «нескромных приставаниях» Мироновича к покойной Сарре. Это Сакс заявил следователю, подтверждал и здесь, на суде. Но Чеснова как у следователя, так равно и здесь отвергла эту ссылку. Она допускает, что «кто-нибудь» другой, может быть, и говорил об этом Саксу, но только не она, так как «подобного» она не знает и свидетельницей тому не была. Ссылка Сакса оказалась во всяком случае… неточной. Правосудие нуждается в точности.
К области же столь «неточных» сведений следует отнести и довольно характерное показание добровольца-свидетеля Висковатова. Он сам, никем не вызванный, явился к следователю и пожелал свидетельствовать «вообще о личности Мироновича». Показание это имеет все признаки сведения каких-то личных счетов, на чем и настаивает Миронович.
Но возьмем его как вполне искреннее. Насколько оно объективно, достоверно?
Висковатов утверждает, что лет десять тому назад Миронович совершил покушение на изнасилование (над кем? где?). Об этом как-то «в разговоре» тогда же передавал ему ныне уже умерший присяжный поверенный Ахочинский. Затем еще Висковатов «слышал», что Миронович «отравил какую-то старуху и воспользовался ее состоянием». Здесь не имеется даже ссылки на умершего. Висковатов слышал… от кого, не помнит. Но ведь сплетни - не характеристика. Передавать слух, неизвестно от кого исходящий, значит передавать сплетню. Правосудие вовсе не нуждается в подобных услугах. Сам закон его ограждает от них. Свидетелям прямо возбраняется приносить на суд «слухи, неизвестно откуда исходящие».
Это самое характерное в деле свидетельское показание, имеющее в виду обрисовку личности Мироновича.
Все другие «уличающие» Мироновича показания, которым я мог бы противопоставить показания некоторых свидетелей защиты, дают нам едва ли пригодный для настоящего дела материал. Скуп или щедр Миронович, мягок или суров, ласков или требователен - все это черты побочные, не говорящие ни за, ни против такого подозрения, которое на него возводится.
Тот факт, что он опозорил свои седины ростовщичеством, стал на старости лет содержателем гласной кассы, равным образом нисколько не поможет нам разобраться в интересующем нас вопросе. В видах смягчения над ним по этому пункту обвинения следует лишь заметить, что это ремесло не знаменует ничуть какого-либо рокового падения личности в лице Мироновича. Такое знамение возможно было бы усмотреть лишь для личности с высоким нравственным уровнем в прошлом, но Миронович и в прошлом и в настоящем - человек заурядный, человек толпы. Он смотрит на дело просто, без затей: все, что не возбранено законом, дозволено. Ростовщичество у нас пока не карается, - он им и наживает «честно» копейку. Торговый оборот, как и всякий другой! Объявите сегодня эту «коммерцию» преступной, он совершит простую замену и отойдет в сторону, поищет чего-нибудь другого. Чувство законности ему присуще, но не требуйте от него большего в доказательство того, что он не тяжкий уголовный преступник!
Гораздо более существенное в деле значение имеет все то, что так или иначе характеризует нам отношения покойной Сарры к Мироновичу. Обвинительная власть по данным предварительного следствия пыталась сгустить краски для обрисовки этих отношений в нечто специфически многообещающее. Миронович, дескать, давно уже наметил несчастную девочку, как волк намечает ягненка.
Процессуальное преимущество следствия судебного перед предварительным в данном случае оказало услугу правосудию. Ничего преступно неизбежного, фатально предопределенного в отношениях Мироновича к Сарре обвинительной власти на суде констатировать не удалось. Значительно поблекли и потускнели выводы и соображения, занесенные по тому же предмету в обвинительный акт. Удивляться этому нечего, так как лишь при перекрестном допросе свидетелям удалось высказаться вполне и начистоту, без недомолвок и без того субъективного оттенения иных мест их показания, без которого не обходится редакция ни одного следственного протокола.
На поверку вышло, что свидетели не так много знают компрометирующего Мироновича в его отношениях к покойной Сарре, как это выходило сначала.
Точно отметим, что именно удостоверили свидетели.
Бочкова и Михайлова, простые женщины, жившие в том же доме и водившие с покойной знакомство, утверждают только, что девочка «не любила» Мироновича. Что она жаловалась на скуку и на то, что работа тяжела, а хозяин требователен: рано приезжает в кассу и за всем сам следит. Когда отец уезжает в Сестрорецк, ей особенно трудно, так как сменить ее уже некому. Нельзя выбежать даже на площадку лестницы.
Согласитесь, что от этих вполне естественных жалоб живой и умной девочки, бессменно прикованной к ростовщической конторке, до каких-либо специфических намеков и жалоб на «приставания» и «шалости» Мироновича совсем далеко.
Свидетельницы на неоднократные вопросы удостоверили, что «это» им совершенно не известно и что жалобы Сарры они не понимали столь односторонне. Наконец, допустим даже некоторые намеки со стороны Сарры и в таком направлении. Девочка живая, кокетливая, сознавшая уже свое деловое достоинство. Каждое неудовольствие, любое замечание Мироновича она могла пытаться объяснить и себе и другим не столько своим промахом, действительной какой-нибудь ошибкой, сколько раздражительностью «старика» за то, что она не обращает на него «никакого внимания», за то, что он даже ей «противен».
Покойная Сарра по своему развитию начинала уже вступать в тот период, когда девочка становится женщиной, ей было уже присуще женское кокетство. Во всяком случае «серьезно» она ни единому человеку на «приставания» Мироновича не жаловалась и никаких опасений не высказывала.
В этом отношении особенно важное значение имеют для нас показания свидетельницы Чесновой и родного брата покойной Моисея Беккера. С первой она виделась ежедневно: выбирала первую свободную минуту для дружеской болтовни и никогда не жаловалась на «приставания» Мироновича или на что-либо подобное. С братом она виделась периодически, но была с ним дружна и откровенна. Никаких, даже отдаленных намеков на «ухаживание» или на «приставание» Мироновича он от сестры никогда не слыхал. Равным образом и отец убитой, старик Беккер, «по совести» ничего не мог дать изобличающего по интересующему нас вопросу.
Остается показание скорняка Лихачева. Свидетель этот удостоверил, что однажды в его присутствии Миронович за что-то гладил Сарру по голове и ласково потрепал ее по щеке. Раз это делалось открыто, при постороннем, с оттенком простой ласки по адресу старшего к младшему (Миронович Сарре в отцы годится), я не вижу тут ровно ничего подозрительного. Во всем можно хотеть видеть именно то, что желаешь, но это еще не значит - видеть. Из показаний Лихачева следует заключить лишь о том, что и Миронович не всегда глядит исподлобья, что он не всегда только бранил Сарру, а иногда бывал ею доволен и ценил ее труд и как умел поощрял ее.
Во всяком случае вывод о том, что Миронович вечно возбуждался видом подростка Сарры и только ждал момента, как бы в качестве насильника на нее наброситься, из показаний этих свидетелей сделать нельзя. Других свидетелей по этому вопросу не имеется. Успокоиться же на априорном наличии непременно насильника, когда нет к тому же самого насилия, значит строить гипотезу, могущую свидетельствовать лишь о беспредельной силе воображения, не желающего вовсе считаться с фактами.
Именно такую «блестящую» гипотезу дал нам эксперт по судебной медицине профессор Сорокин. На этой экспертизе нам придется остановиться со вниманием. С ней приходится считаться не потому, чтобы ее выводы сами по себе представлялись ценными, так как она не покоится на бесспорных фактических данных, но она имела здесь такой большой успех, произвела такое огромное впечатление, после которого естественно подсказывалась развязка пьесы. Кто сомневался ранее в виновности Мироновича, после «блестящей» экспертизы профессора судебной медицины Сорокина откладывал сомнения в сторону, переносил колебание своей совести на ответственность все разъяснившей ему экспертизы и рад был успокоиться на выводе: «да, Миронович виновен, это нам ясно сказал профессор Сорокин»…
Но сказал ли нам это почтенный профессор? Мог ли он нам это сказать?
Два слова сперва, собственно, о роли той экспертизы, которую мы, истомленные сомнениями и трудностями дела, с такой жадностью выслушали вечером на пятый день процесса, когда наши нервы и наш мозг казались уже бессильными продолжать дальше работу.
Экспертиза призывается обыкновенно ради исследования какого-либо частного предмета, касающегося специальной области знания. Такова была, например, экспертиза Балинского и Чечота. Им не был задан судейский вопрос: «виновна ли Семенова?», - они ограничились представлением нам заключения относительно состояния умственной и духовной сферы подсудимой.
В своем действительно блестящем и вместе строго научном заключении профессор Балинский, как дважды два четыре, доказал нам, что Семенова - психопатка и что этот аморальный душевный склад подсудимой нисколько не исключает (если, наоборот, не способствует) возможности совершения самого тяжкого преступления, особливо, если подобной натурой руководит другая, более сильная воля. Но Балинский, как ученый и специалист, не пошел и не мог пойти далее. Он не сказал нам, что Семенова, руководимая более сильной волей (Безака), совершила это злодеяние - убила Сарру Беккер. Если бы Балинский понимал столь же неправильно задачу судебной экспертизы, как понял ее Сорокин, он бы, вероятно, это высказал. Но тогда он не был бы тем серьезным, всеми чтимым ученым, ученым от головы до пят, каким он нам здесь представился. Он явился бы разгадывателем шарады, а не экспертом.
К мнению профессора Балинского безусловно присоединился другой эксперт, психиатр-практик Чечот, остановившись на конечном строго научном выводе: «Душевное состояние психопатизма не исключает для лица, одержимого таким состоянием, возможности совершения самого тяжкого преступления. Такой человек, при известных условиях, способен совершить всякое преступление без малейшего угрызения совести. Ради удачи того, что создала его болезненная фантазия, он готов спокойно идти на погибель».
Таким психопатическим субъектом эксперты-психиатры считают Семенову. Психопат - тип, лишь недавно установленный в медицинской науке. Это субъект безусловно ненормальный и притом, как доказано, неизлечимый. Такие душевнобольные, безусловно, опасны и вредны и в обществе терпимы быть не могут. Наказывать их как больных нельзя, но и терпеть в своей среде тоже невозможно.
Вот выводы экспертов-психиатров относительно Семеновой. Для всех очевидно, на чем эти выводы основаны - на точных и доказанных положениях медицинской науки.
С этим считаться должно, ибо это не «гипотеза», не «взгляд в нечто» человека, обладающего лишь воображением, это научная экспертиза людей строгой науки, перед доказательной аргументацией которых всякий профан обязан преклониться.
Обратимся к экспертизе Сорокина. Сорокин также профессор, стало быть, также ученый человек. Но в чем его наука? Он занимает кафедру судебной медицины; читает ее в медицинской академии для врачей, в университете - для юристов. Я сам немного юрист, и все мы, юристы, прослушали в свое время этот «курс судебной медицины». Мы знаем, что это за наука. Собственно говоря, такой науки нет в смысле накопления самостоятельных научных формул, данных и положений, это лишь прикладная отрасль обширной медицинской науки со всеми ее специальными извилинами и деталями. И психиатрия также входит в ее область. Однако же мы позвали специалистов-психиатров Балинского и Чечота, не довольствуясь Сорокиным и Горским. Отсюда уже ясно, что значит быть специалистом по «судебной медицине» и что представляет собой сама наука «судебная медицина». Всего понемножку из области медицины для применения в гомеопатических дозах в крайних обстоятельствах юристом. Это - наука для врачей и юристов. Этим, я думаю, уже все сказано. Юристы воздерживаются считать себя в ее области специалистами и по большей части в университете не посещают даже вовсе лекций по судебной медицине. Врачи-специалисты от нее сторонятся основательно, считая ее мало обоснованной, энциклопедией для юристов, а вовсе не медицинской наукой. Остается она, таким образом, достоянием господ уездных врачей, которые, как известно, специальностей не признают и по служебным обязанностям признавать не могут, не признают также и немногих профессоров, преподающих эту науку «врачам и юристам».
Предварительные эти справки были совершенно необходимы для того, чтобы с должной осторожностью ориентироваться в значении той судебно-медицинской экспертизы, которую вы здесь выслушали. Она не ценна ни внешней, ни внутренней своей авторитетностью. Раз мы призываем разрешить наши недоумения науку, она должна быть наукой. Всякий суррогат ее не только бесполезен, но и вреден.
В начале своего страстного, чтобы не сказать запальчивого, заключения сам эксперт Сорокин счел нужным оговориться. Его экспертиза - только гипотеза, он не выдает ее за безусловную истину. К тому же главнейшие свои доводы он основывает на данных осмотра трупа по следственному протоколу, причем высказывает сожаление, что исследование трупа произведено слишком поверхностно. Эксперт к тому же чистосердечно заявляет, что эти дефекты предварительного следствия лишают его экспертизу возможности с полной достоверностью констатировать весь акт преступления.
Но если так, то не было ли бы логичнее, осторожнее и целесообразнее и не идти далее такого вступления? Ужели задача экспертизы на суде - строить гипотезы, основанные на данных, «не могущих быть с полной достоверностью констатированными»? Нельзя же забывать, что здесь разрешается не теоретический вопрос, подлежащий еще научной критике, доступный всяческим поправкам, а разрешается вопрос жизненный, практический, не допускающий ни последующих поправок, ни отсрочки для своего разрешения. Речь идет об участи человека!
Эксперт, открыв в начале своего выступления предохранительный клапан заявлением о том, что он строит лишь гипотезу, понесся затем уже на всех парах, пока не донесся, наконец, до категорического вывода, что Миронович и насилователь, и убийца.
Демонстрации почтенного профессора над знаменитым креслом, в котором найдена была покойная Сарра, выдвинутом на середину судебной залы при вечернем освещении, очень напоминали собой приемы гипнотизма и, кажется, вполне достигли своей цели. После царившего дотоле смятения духа все замерли в ожидании зловещей разгадки, и разгадка самоуверенно была дана почтенным профессором. Всеми было забыто, что, по словам того же профессора, он дает лишь гипотезу; оговорку приписывали лишь его скромности и поняли, что он дает саму истину.
Во всю мою судебную практику мне не случалось считаться с более самоуверенной, более категорической и вместе с тем менее доказательной экспертизой!
В самом деле, отбросим на минуту вывод и остановимся на посылках блестящей экспертизы профессора Сорокина.
Первое, основное положение экспертизы Сорокина - кресло. Нападение было сделано на кресле, на котором Сарра Беккер и окончила свою жизнь. Ударам по голове предшествовала как бы попытка удушить платком, найденным во рту жертвы. Таким способом, по мнению эксперта, грабитель никогда не нападает. Грабитель прямо стал бы наносить удары. Поэтому эксперт высказывает уверенность, что в данном случае существовала попытка к изнасилованию. Вы видите, как ничтожна посылка и какой огромный вывод!
Но какая наука подсказала эксперту, что грабитель никогда так не нападает? Я думаю, что грабитель нападает так, как по данным обстоятельствам ему это наиболее удобно. Если таким грабителем была Семенова, втершаяся первоначально в доверие девочки (вспомните, что в тот именно вечер Сарра с какой-то неизвестной свидетелям женщиной сидела на ступеньках лестницы перед квартирой), проникшая в квартиру с ведома и согласия самой Сарры, то и нападение и самое убийство должно было и могло случиться именно тогда, когда девочка беззаботно сидела в кресле и менее всего ожидала нападения. Имея в виду, что Семенова имела лишь некоторое преимущество в силе над своей жертвой, станет понятной та довольно продолжительная борьба, которая велась именно на кресле. Значительно более сильный субъект сразу бы покончил со своей жертвой. Навалившись всем туловищем на опрокинутую и потому значительно обессиленную Сарру, Семенова должна была проделать именно все то, что относил эксперт на счет насилователя - Мироновича.
На предварительном следствии Семенова (не будучи знакома с протоколами предварительного следствия) так приблизительно и рисовала картину убийства. Она совершила его на том самом кресле, которое демонстрировал эксперт.
Спрашивается, в чем же неверность или невероятность подобного объяснения Семеновой, фотографически отвечающего обстановке всего преступления? Зачем понадобился мнимый насилователь, когда имеется налицо реальная убийца?
Но кресло и попытка к задушению достаточны для эксперта, чтобы отвергнуть мысль о нападении грабителя и доказывать виновность Мироновича.
Семенову, непрофессиональную грабительницу, которая могла пустить в ход и непрофессиональный способ нападения, опровергнув тем все глубокомысленное соображение эксперта, профессор Сорокин просто-напросто отрицает. Он не верит ее рассказу, не верит, чтобы она могла совершить это убийство, чтобы у нее могло хватить на это даже физической силы. Это последнее соображение эксперта лишено уже всякого доказательного значения, так как он даже не исследовал Семеновой. Эксперты-психиатры, хорошо ознакомленные с физической и психической природой Семеновой, наоборот, подобную возможность вполне допускают.
Итак, мы видим, что заключение профессора Сорокина - действительно гипотеза. Гипотеза, как более или менее счастливая догадка или предположение, ранее чем превратиться в истину, нуждается в проверке и подтверждении. Такой проверки и такого подтверждения нам не дано. Наоборот, я нахожу, что даже судебно-медицинская экспертиза предварительного следствия в достаточной мере ее опровергает. Три судебных врача, видевших самый труп на знаменитом отныне кресле, производивших затем и вскрытие трупа, высказались за то, что смерть Сарры последовала от удара в голову и была лишь ускорена удушением. При этом они положительно констатировали, что никаких следов покушения на изнасилование не обнаружено.
Настаивая на «попытке к изнасилованию», эксперт Сорокин упускает совершенно из виду все естественные проявления сладострастия и полового возбуждения. Уж если допускать, что Миронович проник ночью в кассу под предлогом сторожить ее и Сарра его добровольно впустила, то не стал бы он сразу набрасываться на девочку, одетую поверх платья в ватерпруф, валить ее на неудобное кресло и затем, не сделав даже попытки удовлетворить свою похоть, - душить. Раз проникнув в помещение кассы, чтобы провести в ней ночь, он был хозяином положения. Он мог дождаться, пока Сарра разденется, чтобы лечь спать, мог выбрать любую минуту, любое положение. В комнате, кроме кресла, был диван, но для изнасилования избирается именно неудобное кресло. В качестве сластолюбца, забравшегося на ночлег вблизи своей жертвы, Миронович, конечно, обставил бы свою попытку и большим удобством, и комфортом.
Ключ от входной двери найден в кармане ватерпруфа Сарры. Насилование и убийство производится, таким образом, при открытых дверях. Это могло случиться при случайном нападении, но не при обдуманной попытке к сложному акту изнасилования.
Мало того, если бы Миронович был виновником убийства, он, конечно, сумел бы придать обстановке кассы все внешние черты разграбления. Он разбил бы стекла в витринах, раскидал бы вещи. Но истинный грабитель берет лишь самое ценное, по возможности не делая лишнего беспорядка, не оставляя никаких следов грабежа.
Ключ от двери в кармане убитой Сарры, надетый на ней ватерпруф и недоеденное яблоко в кармане того же ватерпруфа дают мне основание считать, что на нее напали тотчас же, как она вошла в квартиру, впустив за собой с доверием своего убийцу. Если та женщина, которая сидела на лестнице с Саррой, была Семенова, если, доверяясь ей как женщине, ее впустила за собой Сарра, то ясно, кто и убийца.
Итак, с экспертизой Сорокина можно покончить. Она не отвечает ни строгим требованиям науки, ни фактам, ни еще более строгим требованиям судейской совести. Ваш приговор не может покоиться на гипотезе, в нем должна заключаться сама истина.
Но где же и как ее еще искать? Пока все поиски в смысле установления виновности Мироновича, согласитесь, были бесплодны.
Отметьте это в вашей памяти, так как теперь нам предстоит перейти в последнюю область улик, которыми пытаются еще закрепить виновность Мироновича.
На предварительном следствии спешили выяснить, где находился Миронович в ночь совершения убийства. Оказалось (на первых порах - как значится в обвинительном акте), что Миронович, вернувшись домой в обычное время, провел всю ночь в своей квартире, никуда не отлучаясь. Дворник Кириллов и все домашние Мироновича, спрошенные врасплох на другой же день, единогласно заявили, что хозяин провел ночь, как и всегда, дома, рано лег спать и до утра решительно никуда не отлучался.
Но вот неожиданно появляется свидетельница Егорова, проживающая в доме, где совершилось убийство, со странным, чтобы не сказать зловещим, показанием. Ей неведомо с чего «припомнилось» вдруг, что в самую ночь убийства она видела шарабан Мироновича, запряженный в одну лошадь, стоящим, как и всегда, у ледника дома, внутри двора. Обыкновенно Миронович здесь ставил лошадь, когда приезжал без кучера и затем отправлялся в кассу ссуд.
Показание представлялось тем более сенсационным, что решительно никто в доме, кроме Егоровой, шарабана ни в ту ночь, ни ранее не видал. Для того чтобы въехать во двор, пришлось бы будить дворника, отворять ворота. Наконец, было бы истинным безумием въезжать ночью в экипаже в населенный двор для смелой любовной эскапады.
К показанию своему Егорова, по счастью, добавила, что в ту ночь она «очень мучилась зубами», всю ночь напролет не спала, но положительно «припоминает», что это было именно в самую ночь убийства. Ранее она неоднократно видела шарабан Мироновича на том же самом месте, но бывало это всегда днем; раз только случилось видеть ночью.
Показание это само по себе столь неправдоподобно, что обвинению, казалось бы, следовало от него разом отступиться. Мало ли что может привидеться дряхлой старухе, измученной зубной болью и бессонницей, в глухую, темную ночь. Лошадь и шарабан Мироновича ежедневно стояли перед ее окнами на одном и том же месте и, по простому навыку зрения, могли ей померещиться в бессонную ночь. Во всяком случае полагаться на подобное удостоверение представлялось бы более чем рискованным.
Но обвинение пытается его укрепить. Оно ссылается на заявление плотника Константинова, ночевавшего в дворницкой дома Мироновича, который удостоверяет, что на звонок выходил (в котором часу, он не помнит) дворник Кириллов, который потом говорил, что распрягал хозяйскую лошадь. Но ведь вся сила этого показания сводится лишь к тому, в котором это было часу. Если это имело место около девяти часов вечера, то показание Константинова ни в чем не расходится ни с действительностью, ни с показаниями других свидетелей. Из его показания выходит только, что он уже спал, когда раздался звонок. По показанию его же семьи и дворника Кириллова, Константинов, будучи немного выпивши в этот день, залег спать ранее восьми часов.
Миронович вышел из кассы в половине девятого, к девяти он и должен был вернуться домой. Его энергичный хозяйский звонок, очевидно, и разбудил Константинова. Затем, по указанию дворника Кириллова, Миронович уже никоим образом без его ведома не мог бы вновь запрячь лошадь и выехать со двора, потому что ключи от конюшни, сарая и от ворот хранились у него в дворницкой под его тюфяком.
Судебно-медицинское вскрытие трупа покойной Сарры свидетельствует нам, что убийство было совершено над ней не ранее двух часов после принятия ею пищи. В девять часов была закрыта касса. Свидетели видели, как девочка после того ходила за провизией в мелочную лавку. Ее видели и позднее, около десяти часов вечера, сидевшую на лестнице с какой-то неизвестной женщиной. Убийство. стало быть, несомненно, было совершено не ранее одиннадцати часов ночи. В это время Миронович, вне всяких сомнений, был уже дома и спал мирным сном.
Если отбросить нелепое, ни с чем решительно не соо